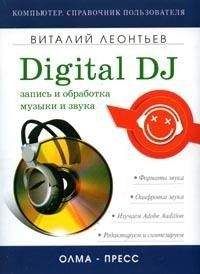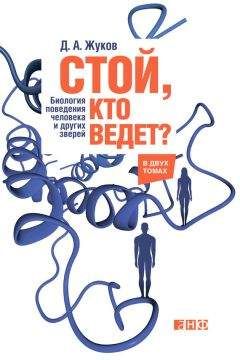Владимир Лебедев - Достоевский над бездной безумия
Все «демонические женщины» Достоевского, прототипом которых была Аполлинария Суслова, трагически страстны и прекрасны, но не способны дать счастье тем, с кем они соприкасаются. Именно из-за невозможности в условиях общества, построенного на лицемерии, естественно любить и добиваться реализации идеала героини Достоевского двигались по жизненному пути от любви к безумию.
«Тяжело тебе, женщина», – так понимает Митя Карамазов Катерину Ивановну. «О, я несчастна! Таков мой... ужасный, несчастный характер!» – признается она сама, раздираемая ненавистью к Грушеньке, любовью-ненавистью к Мите, странной любовью к Ивану, неспособностью ни чувствами, ни поступками проявить свою любовь.
Попробуем разобраться в ее чувствах. Казалось бы, Митю она любит только как человека, «за его сердце». «Исступленно и торопливо» говорит она, придя в тюрьму: «Я... пришла... сказать тебе, что ты мой... что безумно люблю тебя... и любила тебя, что ты сердцем великодушен!.. Любовь прошла, Митя!.. но дорого до боли мне то, что прошло. Это узнай навек... И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня... люби меня, всю твою жизнь люби...» (15; 187–188). Но достаточно ей представить, как Митя убежит с ее соперницей, Грушенькой, и уже она «озлилась» не только на Митю, но и на Ивана, сказавшего ей об этом.
Особенно показательны алогичность и бесконтрольность ее эмоций-мыслей по отношению к Ивану. Поняв, что Иван, даже ревнуя ее (подозревая, что она любит Митю), не оставил мысли спасти брата и ей же самой доверил дело спасения, Катерина Ивановна «...хотела было упасть к ногам его в благоговении», но, как подумала «вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасаю Митю (а он бы непременно это подумал)», «опять раздражилась и вместо того, чтобы целовать его ноги, сделала опять ему сцену!» (15; 180–181).
Ее непоследовательность проявляется и в отношениях с Митей. Пытаясь разобраться в логике своего рокового выступления на суде, ложно обвинившего Митю, Катерина Ивановна «почти бессмысленно» говорит: «И тогда не верила! Никогда не верила! Ненавидела тебя и вдруг себя уверила, вот на тот миг... Когда показывала... верила... а когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить...» (15; 188). И она права, когда говорит, отчаявшись справиться с собой: «Вы еще увидите; я сделаю, я доведу-таки до того, что и он (Иван. – Авт.)бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий, но тогда... уже я не перенесу, я убью себя!» Болезненны ее эмоции в ссоре с Иваном, когда ее «до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел», что она вдруг закричала: «это он, он один уверил меня, что брат его Дмитрий убийца!» Самообвинения ее («Я нарочно наклеветала, чтоб еще раз уязвить его, он же никогда не уверял меня, что брат – убийца... я сама уверяла его!.. всему причиною мое бешенство... Я всему причиною, я одна виновата!»– 15; 181) также глубоко болезненны.
К. Леонгард, обратив внимание, что Катерина Ивановна «способна на восторг, быстро переходящий в отчаяние», отнес ее к тем больным, которые, «впадая в экстатическое состояние, чувствуют себя призванными к тому, чтобы принести счастье и освобождение другим людям».[77] Содержанием их идей «служит собственное счастье или счастье других».[78] Мысль ее сделать никогда не любимого по-настоящему Митю счастливым, пожертвовав ему себя, превратить свою соперницу Грушеньку в союзницу по его спасению вполне укладывается в идею «экстатического счастья». Для Леонгарда важно, что Катерина Ивановна, дойдя до предела эмоционального возбуждения, впадает в истерический припадок. Истерическое реагирование означает, что внутреннее напряжение, став непереносимым, не нашло другого, нормального выхода.
В периоды же упадка настроения на фоне тревоги и страха она, как это и бывает при таких состояниях, винит себя в случившихся несчастьях. Возникшее чувство неопределенной угрозы, сопровождающееся беспомощностью и недоверчивостью, заставляет ее интерпретировать поведение людей как имеющее прямое отношение к ней. К. Леонгард, анализируя подобные состояния, отмечает, что «часто нелегко решить, что здесь является идеей отношения, что – иллюзией и что – галлюцинацией».[79] Иначе говоря, переводя с психиатрической терминологии на психологическую, нелегко разобраться, что это? Только ли ошибка интерпретации, или ошибочное (иллюзорное) восприятие случившегося, или, наконец, несуществующее (полностью созданное болезненным воображением) образное представление, спроецированное вовне? Как Катерина Ивановна, так и ее прототип – А. Суслова в периоды снижения настроения не могли отделить действительно существующего от тенденциозно интерпретированного, иллюзорно воспринятого и даже полностью созданного их богатой болезненной фантазией.
Сама ключевая тема «воображаемого счастья» перебрасывает логический мост от психиатрии к тайне неспособности женщин – героинь Достоевского – дать кому-либо счастье. Страстными они становятся тогда, когда к экзальтированности чувств присоединяется и самостоятельная возбудимость в сфере воли. «Восторг и отчаяние, – пишет Леонгард, – находят выражение в самих поступках, в то время как при отсутствии волевой возбудимости чрезмерная экзальтированность чувств больше выражается в идеях... У Катерины Ивановны активность появилась лишь тогда, когда эмоциональное возбуждение достигло апогея, обычно же оно проявлялось больше в экзальтированности идей».[80]
«Много в нас ума-то обоих», – эти слова Версилова, обращенные к Ахмаковой при прощальном свидании в романе «Подросток», вполне могли бы быть сказаны Достоевским А. Сусловой. Называя Версилова «Милый, и теперь милый человек!» и оставляя его для себя на всю свою жизнь только как «серьезнейшую и самую милую» свою мысль, она говорит: «Я никогда не забуду, как вы потрясли мой ум при первых встречах» (13; 416). В этих примечательных словах звучит основной мотив чувства А. Сусловой к Достоевскому. Аналогично поразил Ахмакову в Версилове «...величайший ум», а также то, что он был одним из немногих людей, «который говорил с ней серьезно и которого она очень любила слушать» (13; 207).
Версилов, понимающий свою раздвоенность и отсутствие эмоциональности, двусмысленным замечанием об избыточности ума у него и Ахмаковой одновременно дает понять, что их общая большая беда – недостаток сердечности: «О, вы – моего пошиба человек! я написал сумасшедшее письмо, а вы согласились прийти, чтоб сказать, что „почти меня любите“. Нет, мы с вами – одного безумия люди!» (13; 417). На последнем свидании с Версиловым Ахмакова много говорит о любви, но как ее слова далеки от простого, живого и понятного чувства! Ее холодность, амбивалентность и расщепленность очевидны: «...Любила... Теперь не люблю... улыбнулась... потому, что когда угадываешь, то всегда усмехнешься... Может быть, совсем не люблю... Я очень скоро вас тогда разлюбила... Мне кажется, если б вы меня могли меньше любить, то я бы вас тогда полюбила...» (13; 414, 416).
В глазах Аркадия Долгорукого Ахмакова выглядит то как «выведывающая змея», то как «святая», то как «страстная женщина», то как «студентка», разговаривающая со студентом, то как идеал («благороднейшее существо»), то как «развратная светская женщина» («Мессалина»), «в которой все пороки». Вместе с тем эта женщина, думающая не только о собственном счастье, никого не смогла осчастливить, оставаясь холодным светилом недосягаемой красоты. Причем различные ее ипостаси не совмещаются в единое целое и как бы неназойливо наталкивают читателя на мысль о расщепленности ее личности и опустошенности ее души. Эта холодность, замаскированная под эмоциональную приветливость, становится особенно очевидной при сравнении Ахмаковой с Татьяной Лариной.
Прощальное свидание героев «Подростка» как бы повторяет последнюю встречу Онегина с Татьяной. Но как же различаются женские образы по признаку эмоциональности! У Пушкина «холодный взгляд», «холодный строгий разговор», «чувство мелкое» – удел Онегина, тогда как любящая, но неспособная построить свое счастье на несчастье других Татьяна со всей эмоциональностью самоотверженной женщины, не кривя душой, говорит: «Я вас люблю». И если для Онегина и Татьяны «...счастье было так возможно, так близко», то для Версилова и Ахмаковой из-за имеющегося (прежде всего у последней) эмоционального дефекта «счастье» всегда далеко и недостижимо.
Судьба Ахмаковой, так же как и судьба Настасьи Филипповны, несмотря на их разное, резко отличное положение в обществе, связана с деньгами, которые деформировали их отношение к любви. Компрометирующее письмо Ахмаковой, написанное неосторожно с целью наложить опеку на психически неполноценного отца, дало ей основание чувствовать себя уязвимой и незащищенной. Вместе с тем ее последняя встреча с Версиловым напоминает «окончание романа» Ставрогина с Лизой. «Два щелчка с обеих сторон» – также могли бы сказать они о своей несостоявшейся любви. Лиза Тушина, Настасья Филипповна, Катерина Николаевна, Катерина Ивановна (так же как и их прототип А. Суслова) тщетно стремятся к идеальной любви. Женщины тонких чувств и исключительной красоты, «возлюбившие много», они принесли тем, кого они полюбили, не счастье, а горе.