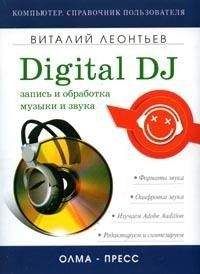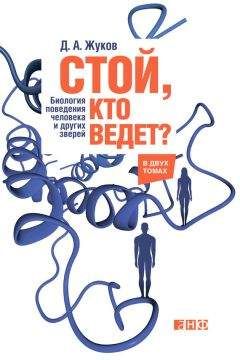Владимир Лебедев - Достоевский над бездной безумия
Выдвигаемые для опровержения наличия у Версилова психического расстройства доводы, что его странные, «похожие на сумасшествие» поступки объясняются чрезвычайными, «стрессовыми ситуациями», в которые он попадает, неубедительны при сравнении с судьбой Ставрогина. Версилов, возможно, в еще большей степени, чем Ставрогин, творец той сложной конфликтной ситуации, в которую он попал. Однако в период времени, когда происходит действие самого романа, его положение менее сложно и опасно, чем у Ставрогина, затянутого в политические и семейные трагические коллизии. Причину неоднозначности социально-медицинской оценки поведения этих героев мы видим преимущественно в другом – в различном восприятии их теми людьми, от имени которых ведется повествование.
Роман «Подросток» Достоевский специально пишет от имени его главного героя – подростка: «Если от Я, то придется меньше пускаться в развитие идей, которых Подросток, естественно, не может передать так, как они были высказаны». И особенно важно для нас, что «чувства Подростка к НЕМУ (Версилову. – Авт.) могут быть прямее, яснее и проще выражены (и неожиданнее) в рассказе от Я...» (16; 98). Жизнь Ставрогина же описывается хроникером. Причем как характер отношения повествователей к этим героям, так и возрастные и социально-ролевые особенности обоих рассказчиков существенно разнятся. Если хроникер в романе «Бесы» отстранен от Ставрогина и, учитывая таинственно-зловещую роль последнего в трагических событиях, относится к нему отрицательно и подозрительно, то отношение Аркадия к своему загадочному отцу принципиально другое. Чувство просыпающейся сыновней любви заставляет его отбирать в хаосе сведений о Версилове все хорошее, оправдывающее его любовь. Этой разницей в отношении повествователей обусловлен значительно более теплый облик Версилова, воспринимаемый вследствие этого как психически более нормальный в сравнении с предельно холодным, демонически-болезненным Ставрогиным.
Но между тем «двойник Версилова», олицетворяющий болезненные, чуждые и враждебные ему самому силы, действует на него по тем же механизмам реакции на случайный сигнал, которые мы подробно разобрали при анализе «шалостей» Ставрогина. Причем раздражителем этим может стать даже самая обычная пьяно-шутовская фраза «ничтожного поручика», просящего милостыню: «Сам давал по десяти и двадцати пяти просителям... Только несколько копеек... просит бывший поручик!» (13; 220). Никак не затрагивающее честь и проблемы Версилова обращение вызывает у него чрезвычайный гнев. И Версилов, осознавая несправедливость, нелогичность своей болезненно измененной эмоциональности, говорит, «странно засмеявшись»: «...бывают без вины виноватыми? Это – самые непростительные вины и всегда почти несут наказание» (3; 413). Недоумевает по поводу непредсказуемости поведения отца и сын: «Я бы никогда не мог вообразить такого гнева от такого философа из-за такой ничтожной причины» (13; 221).
Можно, конечно, психологизируя, игнорировать болезненную импульсивность Версилова, ссылаясь на то, что в предшествующем его разговоре с сыном были затронуты важные интимные проблемы и, сдерживая эмоции, он «перенес» их невыносимость на «козла отпущения», если бы таким же неожиданным, маломотивированным не оказался его переход от гнева к веселью и благодушию. Подросток озадачен внезапным изменением эмоционального состояния отца. Те м более, что не было внятного извинения поручика, которое могло бы объяснить перемену в настроении Версилова: «Совершенно вам извиняю, господин офицер, и уверяю вас, что вы со способностями... а пока вам два двугривенных, выпейте и закусите; извините, городовой, за беспокойство...» (13; 221).
Таким образом, значение позиции автора-рассказчика в творчестве Достоевского, подробно исследованное литературоведом К. А. Степаняном, оказывается существенным для сравнительной оценки психического здоровья Ставрогина и Версилова.
Оба они социально-идеологически обладают по крайней мере тремя взаимосвязанными особенностями. Во-первых, у них утеряна вера в русского православного Бога. Во-вторых, приняв идеалы западничества, они разуверились в нравственных устоях общества, поэтому категории добра и зла для них релятивистски неопределенны. В-третьих, в них и от них морально-нравственные пороки в «рамках случайного семейства» передаются от отцов к детям. При этом возникает один из кардинальных вопросов – насколько сознателен каждый из их поступков, и могли бы они управлять своими поступками в конкретных условиях?
Гипотеза о психическом расстройстве типа шизофрении и у Версилова, и у Ставрогина объясняет, во-первых, непреодолимость сознанием импульсивно возникшего желания поступить вопреки здравому смыслу. При этом для Версилова импульсивность выступает в качестве «двойника», а для Ставрогина – как «бесовство». «Двойник» и «бесовство» – это метафорическое наименование неуправляемой сознанием болезненной психики, предрасполагающей к логически немотивированным поступкам.
Во-вторых, возможный эндогенно-генетический тип передачи психического расстройства по наследству от отца к детям объясняет постоянную мысль Достоевского об ответственности нравственно развращенных отцов за пороки детей. Причем с точки зрения современных психиатрических воззрений воспитание детей и подростков в атмосфере «случайного», отягощенного дискомфортом, алогичностью и холодностью семейства способствует превращению скрытых недостатков психики в явное душевное расстройство.
В-третьих, отсутствие общей с народом веры в понимании идеалов нравственности. К этому предрасполагают эмоциональная холодность и аутизация, приводящие к алогизму отрыва от реальности. Сама установка на безверие притом существенно сказывается на тяжести расстройства, расщепленности, хаосе переживаний, потере единства личности, доходящей до осознания собственной болезни. Причем у Ставрогина и Версилова, по Достоевскому, это одинаково относится как к религиозным воззрениям, так и к идеалам научно-утопического социализма. Отсутствие веры и убежденность в идеалах научного атеизма у этих героев – это прежде всего аэмоциональное отчуждение, отрыв их взглядов от переживаний окружающих их людей. Трагизм потери смысла жизни (религиозного или научного) усиливает трагизм осознаваемой амбивалентности, амбитендентности и аутизма у больных шизофренией. Причем важно, что в романе «Бесы» Петруша Верховенский, как «главный бес», организатор «бесовского шабаша» и анархического авантюризма в городе, опирается на «бесовство» в психике Николая Ставрогина. Евангелическая тема «бесноватости», взятая эпиграфом к роману, недаром включает медицинское понятие безумства. Ставрогин, несмотря на его высокий интеллект, из-за своего психического расстройства оказывается игрушкой в руках политических авантюристов. Причем эта несамостоятельность, несвобода, зависимость от авантюристов прикрывается ролью «псевдолидера» («Ивана-царевича»).
Политическому авантюризму нужны патологически-нестандартно мыслящие и холодно решающие чужие судьбы люди для того, чтобы их руками претворять в жизнь свои грязные замыслы. Этот вывод из общественно-политической жизни нашего времени предвосхищен Достоевским еще в XIX в.
Наши социально-психологические рассуждения в значительной степени основываются на намечающемся сходстве поведения некоторых героев Достоевского с определенными вариантами течения шизофрении. Но обсуждению этой гипотезы мы посвятим последний раздел главы.
4. Болезнь или развитие?
Нечто подобное можно сказать и об участии психиатрической истерики... Будь истерика искусственная, притянутая за волосы с расчетом на известные внешние эффекты, – она является ложным... элементом в романе или повести. Но когда эта истерика извлечена автором из действительности... когда этой истерикой проникнута наша современная жизнь... когда притом автор... наделен необычайной способностью схватывать самые выразительные и поразительные черты этой истерики... – при этих условиях является очень поучительной.
В. П. Буренин«Истерикой» пронизан весь роман «Братья Карамазовы» с «надрывами в гостиной, в избе и на чистом воздухе». В это последнее произведение Достоевский включает различные проявления истерических расстройств. Кликуша – мать Алеши и Ивана. В крайнем аффективном напряжении переносит истерический припадок Алеша. «Истерики» характерны для Екатерины Ивановны Верховцевой. Истеричны «надрывы» Снегирева, Илюшечки, даже Коли Красоткина. Клинически наиболее точно истерия выражена у Лизы Хохлаковой и ее матери, госпожи Хохлаковой.
Называя «истерию обеих Хохлаковых» еще одной восхитительной чертой романа, Г. Гессе пишет: «...Здесь перед нами карамазовский элемент – зараженность всем новым, больным, дурным – дан в двух фигурах. Одна из них, Хохлакова-мать, просто больна. В ней... истерия – это только болезнь, только слабость, только глупость. У роскошной дочери ее – это не усталость, превращенная в истерию, проявленная в ней, но некий избыток, но будущее. Она, терзаемая муками прощающейся с детством, созревающей любви, доводит свои причуды и фантазии до куда большего зла, чем ее незначительная мать, и все же и у дочери проявления самые обескураживающие, непотребные и бесстыдные исполнены такой невинности и силы, которые указывают на плодотворное будущее. Хохлакова-мать – истеричка, созревшая для клиники, и ничего больше. Дочь ее – неврастеничка, болезнь которой является знаком благородных, но скованных сил...».[66]