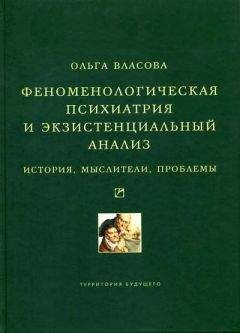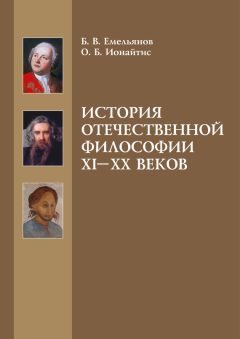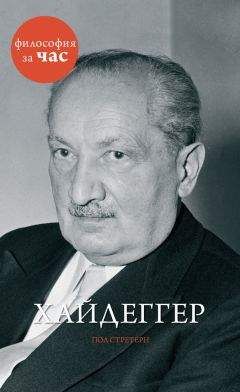Борис Черкун - Эдельвейсы растут на скалах
— Ой, как хорошо Сережка стишок рассказывал! Ему хлопали больше всех! А Дед Мороз долго рылся в игрушках и все говорил: «Не могу подобрать достойный приз». А потом дал аж две игрушки. Сережа! — кричит она. — Покажи, какие игрушки дал тебе Дед Мороз!
6
И Дина повела Сергея на елку. Когда они пришли домой, я стал расспрашивать, что он там видел, какое рассказывал стихотворение.
— «Баню», — говорит Сережа.
— А «Елку на заставе»?
— Мама не разрешила…
Я вижу, что Дину раздражает все, что напоминает обо мне. Она не уходит от меня лишь потому, что уверена: недолго осталось гореть моей свече.
А если все же похудею?.. Мне уже трудно даже представить такое. Кажется, что болеть я буду целую вечность. Но представим, что я похудел. Как же тогда жить нам вместе? Это невозможно. Но тогда потеряю Сережку! Если уж сейчас она готова оградить его от всякого моего влияния, то тогда и подавно. Это становится модным: в случае развода не допускать отца к ребенку. А как же я без Сережки? Зачем вообще мне тогда худеть? Для кого?! Не представляю, как мог бы жить с Диной… Не представляю, как жить без Сережки… Нет, лучше не заглядывать в будущее! Оно против меня.
Родителям не пишу, в каком я положении. Если б они знали всю правду — давно бы забрали меня отсюда. Но зачем мне это? Чтобы потом мать всю жизнь видела меня перед собой — умирающего?
При одной мысли о родителях в памяти грозным предупреждением всплывает картина. Еще здесь, в ульяновской больнице, был один парнишка лет семнадцати. За ним ухаживала мать. И вот однажды его вместе с койкой повезли в восьмую палату. Туда клали обреченных. Парнишка уже давно лежит здесь и знает, что это за палата. Его везут туда, а он машет высохшей желтой рукой и слабым голосом протестует:
— Мама, я не хочу туда… Я не хочу…
А мать идет следом и молча заливается слезами.
Нет, пусть лучше никто не знает, каково мне сейчас.
И все же… Все же я хотел бы, чтобы кто-то… чтобы ты, Аленушка, знала все — каждое движение души моей… Тебе я поведал бы все-все. И — выплакаться б в твои колени. Твое сердце поняло бы. Я не прошу у жизни много: только раз — один-единственный! — почувствовать рядом родную душу, разом излить ей все: как хочется жить и любить, увидеть добрую улыбку, услышать хоть одно ласковое слово!! И как смехотворно дешева стала моя жизнь, висит над пропастью на том самом волоске, на котором был подвешен Дамоклов меч — и я готов в любую минуту собственной рукой чиркнуть по этой волосинке острой бритвой… без сожаления… Я могу сорваться и разбиться. Но отступить… не будет этого, милая Аленушка, обещаю тебе.
«Дорогой Ариан Павлович!
О своем состоянии скажу коротко: SOS! Вы знаете, я зря жаловаться не стану. Обстановку оцениваю объективно: положение становится почти безвыходным. Я живу, пока хожу. Перестану ходить — перестану жить. Только, пожалуйста, не подумайте, что пишу я это в порыве отчаяния или душевной слабости. Нет! Просто трезво смотрю на вещи. Вот поэтому и прошу вызвать меня в Москву как можно скорее. В Москву полечу самолетом, потому что поездом ехать уже не смогу».
* * *Вызов из Москвы пришел немедленно.
В аэропорт меня увозят на «скорой». Жена едет со мной.
Я уже не удивляюсь, что Дина с завидной любознательностью знакомится с залом ожидания, а ко мне не подходит.
Пришло время посадки. Но погода испортилась, рейс на Москву отменяют. На автобусе мне ехать нельзя. Говорю жене, чтобы отправлялась домой, а сам остаюсь. Ночь провожу в кресле. На следующий день погода установилась, вылет объявлен на одиннадцать.
Пассажиры помогают мне подняться в самолет.
Дина не пришла. Хотя знала, что в случае хорошей погоды самолет отправляется утром.
В который уж раз уезжаю я в Москву. Режет меня Арианчик, режет, а мне все хуже и хуже. И все равно я уверен, что если кто и сможет меня спасти, то только Ариан Павлович.
7
Стоило переступить порог хирургического отделения, как на душе стало покойно, словно после долгих скитаний вернулся в родной дом.
Дежурит Зина. Она очень занята, делает на сон грядущий уколы.
— Макар Иванович, иди в холл, там для тебя приготовлена постель.
Иду в холл. Диван застелен простыней, в головах две подушки. Вскоре Зина приносит ужин.
— Наверно, проголодался? Это раздатчица оставила. Говорит, может, нигде не придется ему поужинать, еще голодным спать ляжет.
«Заботились бы дома хоть вполовину…»
Меня готовят к операции. В эти дни получаю от матери письмо.
«Здравствуй дорогой сыночек! С сердечным приветом к тебе папа и мама. Я сегодня вернулась из Ульяновска и сразу пишу тебе письмо. Приедь я к вам днем раньше — еще бы застала тебя. А я как чувствовала. У меня так неспокойно на душе было так сердце болело я не выдержала дай думаю поеду. Приехала пришла к вам а соседи говорят он вчера в Москву улетел. Да и ты бы мог написать что едешь в Москву. И в кого ты такой упрямый. Ну почему я не приехала раньше проводила бы тебя. Дина была на работе. Я дождалась ее у соседей. Потом пришли Дина с Сережей. Она рассказала что из-за нелетной погоды самолет отменили и ты ночевал на аэродроме, как она утром поехала туда и посадила тебя в самолет. Я опоздала всего на несколько часов. Ну почему я не приехала на день раньше. Так терзаю себя за это. Как чувствовала! Я привезла вам трехлитровую банку вишневого варенья любимого Сережиного. Он за один раз съел целую вазочку. Дина приняла меня очень хорошо никогда еще так не принимала. И Сережа очень обрадовался моему приезду. Рассказывал как вы летом приезжали к нам и ходили на рыбалку как он поймал большого окуня. Дина все о тебе да о тебе. Она очень за тебя переживает. Хорошо что съездила. Все же легче на душе стало. Хоть тому порадовалась что дома у тебя все хорошо. Все родные часто спрашивают про тебя как твое здоровье. Все они передают тебе чистосердечный привет. Крепись родной мой сыночек. Выздоравливай поскорей и приезжайте всей семьей в гости. Пиши чаще письма. Дай бог тебе скорейшего выздоровления. До свидания. Твои папа и мама».
Не упрямый я, мама. Мне тоже хотелось повидаться с вами, со всеми близкими… может, в последний раз… Простите меня, мать и отец. Я знаю, как горько и обидно будет вам, что не попрощались даже. Но я не мог пригласить вас. Не хотел, чтобы вы знали, какими были мои последние дни дома. Вам будет горько. А если бы знали всю правду — было бы во сто крат горше. А теперь вы знаете, что хоть дома у меня все было хорошо… Простите меня.
А Дина уверена, что я никому ничего не скажу… Значит, она знает меня. А я ее не знал…
Для меня операция стала уже столь привычным делом, что иду в операционную как на работу, правда, работу трудную, сопряженную со смертельным риском, но необходимую.
Операция длилась четыре часа.
Просыпаюсь от того, что руку сдавила манжетка тонометра. Слышу голос Ариана Павловича:
— Опять шестьдесят на сорок пять, — и с ожесточением добавляет: — Никак, ну никак не могу поднять давление.
«Никуда ты, Арианчик, не денешься», — думаю про себя и снова куда-то проваливаюсь.
В следующий раз Ариан Павлович ничего не говорит, только тяжело вздыхает. Значит, пока без изменений. Но меня это почему-то нисколько не волнует, будто мое давление — сугубо личный интерес Ариана Павловича.
И только под утро, очнувшись, слышу облегченный вздох хирурга:
— Ну, кажется, поехали: шестьдесят пять на пятьдесят.
А я мысленно говорю ему: «Вот видишь. А ты боялся».
Когда у меня становится достаточно сил, чтобы оглядеться, вижу на тумбочке в банке с водой две веточки тополя. «Кто бы это?..»
Загадка раскрылась, когда в палату вошла санитарка тетя Клава:
— Шла сегодня на работу, — говорит она, — и сломила пару веточек. Дай, думаю, поставлю на тумбочку Макару Ивановичу, может, распустит листочки — все ему веселее будет.
— Спасибо, Клавдия Ивановна.
8
Перестал принимать искусственные гормоны. Самовольно. Чтобы посмотреть, что из этого получится. Так прошла неделя.
Хирург на минуту забегает в палату.
— Ариан Павлович, у меня к вам дело.
— Ну, какое еще дело?
Ему сейчас некогда, он куда-то спешит. Но когда он не спешит? Даже, бывает, сделает операцию, а зашивать поручает ассистентам — уже опаздывает на ученый совет.
— Неделю не принимаю таблеток — и прибавил в весе.
Если бы я вдруг закукарекал, хирург не так бы поразился. Теперь он уже никуда не спешит. Он садится на кровать, наклоняет голову и трет пальцами крутой шишкастый лоб.
— Загадка природы… Целую неделю, говоришь, не принимал преднизолон?
— Целую неделю.
— И прибавил в весе? — переспрашивает, словно не верит ушам.