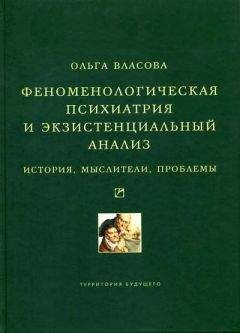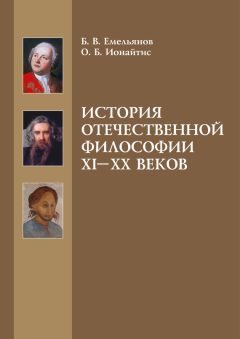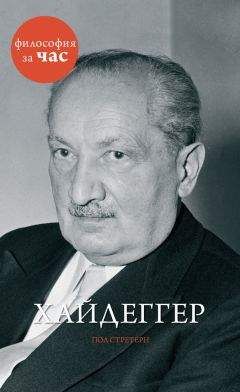Борис Черкун - Эдельвейсы растут на скалах
…Сделав зарядку, выбегаю на улицу, умываюсь первым снегом, докрасна растираюсь полотенцем.
Неповторимое ощущение! В такие минуты я иногда ловил себя на мысли, что нечто подобное испытывает птица в полете: легкость в теле, бодрость — необычайные!
Прошу Ивана растереть спину. Он смотрит на меня с робким почтением, точно Моська на Слона. Это щекочет мое самолюбие. И в то же время злюсь:
— Чего уставился, как на памятник?
Спину трет как-то по-лакейски. Хотя он стоит сзади, я будто вижу его почтительно полусогнутую спину.
— Макар, а как ты начал закаляться? — спрашивает он.
— Да как? Увидел в кино, как в проруби зимой купаются, завидно стало. Начал умываться снегом. Потом в сугроб стал зарываться. Хочешь, завтра вместе пойдем?
На следующий день Иван идет вместе со мной. На первый раз я мазнул его снегом по рукам, по груди, натираю лицо, уши. Он кряхтит, ухает, охает… Потом докрасна растираю полотенцем.
Иван начинает похохатывать:
— Ой, как здорово!
В нем словно распрямилась какая-то пружинка…
13
Операции по удалению одного надпочечника прошли успешно. Но «Кушинг» остался: второй надпочечник берет на себя функции удаленного. Круг замкнулся. Ариан Павлович говорит, что разорвать его можно, лишь удалив оставшийся надпочечник. Эксперименты на животных прошли успешно. Однако тут встал новый психологический барьер: больным придется всю жизнь принимать искусственные гормоны. Сможет ли такой организм в будущем противостоять инфекциям, физическим и психическим перегрузкам? Или первый же грипп, любая травма или непредвиденная операция окажутся для организма губительными? Ведь гормоны надпочечников олицетворяют собой защитные силы организма. Даже при частичном удалении невозможно было предвидеть, как поведет себя организм. Один в день принимает две-три таблетки искусственного гормона, другой совсем не принимает, а у третьего рецидив…
Состоялся консилиум. Было решено произвести операцию по удалению второго надпочечника. Честь идти первым на такую операцию выпала Боровичку.
В состоянии ли будет организм, лишенный естественных гормонов, противостоять неблагоприятным факторам — на это сможет дать ответ только время…
* * *На пятый день после операции Боровиков делает попытку встать. Он садится на койке, берет костыли, осторожно опускает ноги на пол. Распрямляется. На лице возникает странная гримаса… У меня в груди все так и оборвалось…
— Что? Надо крикнуть кого-нибудь на помощь?
Но Володя вдруг отставляет костыли, брови у него встают шалашиком. Он не может выговорить ни слова и только качает головой: не болит.
— Ле-по-та… Эй, люди, сюда-а!
В коридоре раздаются торопливые шаги, дверь распахивается, вбегают двое больных с обеспокоенными лицами. Я показываю на Володю пальцем:
— Смотрите, какие штучки мой Дублер откалывает!
Дублер, переставляя ноги, как паралитик, идет, держась за спинку кровати, и не верит еще, что это он навсегда уходит от костылей, невыносимых болей — уходит от «Кушинга»…
В палату спешат люди с тревожными лицами, но, узнав, в чем дело, в мгновение преображаются: смеются, перемигиваются, балаганят:
— Боровичок, пошли в коридор в чехарду играть.
— Да на нем уже пахать можно!
— Во дает. Ну чисто — Майя Плисецкая.
— Эй, публика, не сглазьте его!
Мне, наконец, тоже разрешили вставать. Теперь мы с Володей соревнуемся: кто из нас медленней ходит. Я передвигаюсь с тросточкой.
В палате освободилась койка, и к нам положили старого знакомого, Зануду. У него щитовидка. Ему и раньше предлагали оперироваться, но он отказывался. Однако болезнь свое берет: Зануде пришлось вернуться и просить, чтобы снова приняли. На нем своя шикарная пижама, мягкие комнатные тапочки. Он знакомится с обстановкой. В хирургическом отделении он впервые.
Сестра делает Володе перевязку.
— Это кыто такая? — шепотом спрашивает у меня Зануда.
— Перевязочная сестра.
— Она и меня будыт перевязыват, да?
— Она всех перевязывает.
— О, дэвушка! Ка-кой ма́ладой, сы́мпатычный, — обращается он к ней. — Я хачу вас у́гастыт. Угащайтэс пажалуста, — раскрывает коробку дорогих конфет. Сестра отказывается. Зануда набирает горсть и высыпает ей в карман. Та смущается, благодарит.
Так он угощает всех, кто будет его лечить: мелкую сошку — всех из одной коробки, а для тех, кого считает поважнее, открывает новую. Еду Зануде приносит жена. Дежурная сестра спрашивает, почему он не идет в столовую. Зануда поднимает брови:
— Я же нэ свинья, читобы жрать ба́льничную пищу. Я же гатовлус к а́пирации.
Сказать Зануде пару ласковых? Да разве до него дойдет? Я уже знаю его. Это не ребенок, который по неопытности может что-то сказать не так. Нет смысла даром тратить порох. Мы игнорируем его. На праздные вопросы не отвечаем, советуем обратиться в Мосгорсправку. Возвратясь из столовой, вылизываем по-шутовски стаканы, ложки, похрюкиваем. Зануда понимает, в чей огород камушки, но не смущается: он верен себе.
Жена приносит Зануде еду несколько раз в день. Тумбочка, стол, подоконник завалены продуктами. Под койкой, в раковине умывальника валяются огрызки. Санитарки не успевают убирать за ним, заочно клянут его, но с ним разговаривают учтиво: он каждый день дежурной санитарке, не глядя, сует в руку рублевку.
Володя подмигивает мне:
— Насобачился.
Зануда и прежде жил в больнице роскошно, а поступив в хирургическое отделение, возвел себя в ранг великомученика и требует от жены и персонала удесятеренного внимания.
С моей легкой руки у Зануды появляется новое имя: Пуп Земли.
Но вот Зануду прооперировали. Теперь жена ходит в магазин только два раза в день. Остальное время сидит подле него. Дежурная санитарка тоже почти не отходит — он теперь дает по трешке, такса повысилась. Однако трудно отрабатывать эту трешку.
Зануда уверен, что за деньги можно купить все. Он не ходит в туалет, хотя ему разрешили вставать. В палате потребует утку, а потом идет гулять по отделению.
Если утку выносит жена, бранит ее — ведь он платит санитарке! А жена сгорает от стыда и, как может, старается помочь ухаживать за ним — вопреки его грубым внушениям, которые он делает ей по-грузински. Она стоит молча, как провинившаяся девчонка, не смея поднять взор на своего грозного господина.
Наконец Зануду выписали, и всем стало легче, будто расстались с больным зубом.
На радостях отправляемся с Боровичком на первый этаж за утренней почтой. В вестибюле кого-то поджидает респектабельный мужчина: лакированные туфли, в холеной руке с золотым перстнем — министерский портфель, сытая, самодовольная физиономия, кавказские усики, золотой зуб во рту… Сначала я даже не признал в нем Зануду…
14
Володя быстро идет на поправку. А у меня с каждым днем рана становится все хуже.
С сестрой на перевязку приходит Ариан Павлович. Садится на Володину койку, напротив меня.
— Придется, наверно, делать тебе ревизию. Посмотреть, не зашил ли там ножницы, — мрачно шутит он.
Володя лежит за спиной хирурга, слушает, глядя то на него, то на меня.
Ариан Павлович поворачивает лицо к Боровикову, ерошит ему волосы:
— А ты заказывай билет. Дней через пять выпишу. Тебе с какого вокзала?
От радости Володя пискнул, закачался на панцирной сетке.
— Тише ты, меня столкнешь, — урезонивает его Ариан Павлович.
— А мне не на поезд — на самолет.
— Где ж у тебя такие деньги: на Сахалин — самолетом?
— Горздрав выдал. Самолетом туда и обратно.
— Сколько ж билет стоит?
— Туда и обратно — триста. Третий раз сюда приезжаю, и каждый раз — самолетом. Горздрав оплачивает.
— Да, братцы, если б не бесплатное лечение, вы б покукарекали, — крутит головой хирург. — Да еще и пенсию платят.
Из операционной меня привозят в палату. Володя сразу приступает к обязанностям сиделки.
Минут через десять приходит Ариан Павлович. Проверяет пульс.
— Ничего подозрительного я у тебя не нашел. Посмотрим, как теперь будет.
Боровикова выписали. А я лежу, гнию.
На Володино место положили старика. Он весь какой-то рыхлый, с сияющей лысиной, обрамленной на затылке редкими волосиками. Когда он говорит, в горле у него свистит, хрипит, булькает. Старик оказался общительным, через час он уже знал, кто, где и когда родился, чем болеет, какая семья, есть ли родители, живы ли родители родителей…
Вскоре его прооперировали. После операции на щитовидке улучшение наступает уже на третий-четвертый день. А старику все хуже и хуже. Его мучит удушье, особенно по ночам. Чтобы не мешать спать остальным, он уходит из палаты, и в коридоре тогда долго слышатся его шаркающие шаги и натужные хрипы.