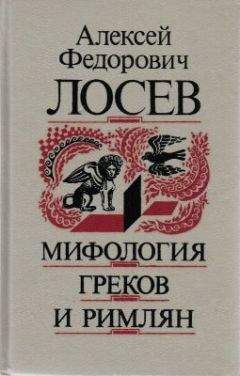Алексей Лосев - Хаос и структура
Однако если все ценности перенесены в человека, на его личность и субъект, то что же остается на долю объективного мира, все равно потустороннего или посюстороннего? Ясно, что, чем интенсивнее субъективизм, тем более пустым и бессодержательным оказывается объективный мир. Чем напряженнее и сложнее субъект, тем более [он ] отказывает объективному миру в его объективности; чем более нервный субъект, тем больше видит он в объективности самого себя, а не саму объективность, тем более горячо построяет он мир по своему собственному образу и подобию.
Что такое потусторонний мир для такого миропонимания? Человек оказывается уже не заинтересован в его личностной субстанциальности. Личностная субстанциальность—это он сам. Конечно, была и такая кульминационная стадия европейского субъективизма, когда этот субъект оказывался незаинтересованным не только в личностной субстанциальности потустороннего, но и вообще во всяких его видах. Такое положение, однако, есть только крайний вывод; и чаще всего, как доминирующая тенденция, действовал более умеренный принцип. Этот принцип заключается в том, что субъект, утверждая себя как такового, понимал объективный мир как только идею. Ведь в вещи есть материальная субстанциальная сторона и есть сторона идеи, оформления, осмысления. Вся субстанциальная сторона была субъектом отнята у вещей и присвоена себе. Он соглашался только на объективное существование идей. Но ведь идеи, лишенные реальной базы, неизбежно превращались в отвлеченность, в простую схему, в рассудочное понятие. И вот: потусторонний мир объективно превратился в отвлеченную идею и посюсторонний объективный мир тоже превратился в конце концов в такую же отвлеченную идею.
Что такое учение о потустороннем мире, данном как отвлеченное понятие? Это есть метафизика, абстрактная метафизика. А религия, построенная на учении о таком мире, есть протестантизм. Средневековая философия не есть абстрактная метафизика. Это очень конкретная мифология, а не абстрактная метафизика. Здесь все состоит из живых личностей. Тут не философские метафизические идеи, а живые личности. Сам абсолют—личность, ангелы — личности, умершие—личности. Общение с ними создает такую же конкретную живую обстановку—культ. И вне культа и не может быть никакого общения. Потустороннее действует конкретно–жизненно, а так как жизнь телесна, то оно действует именно телесно, не только духовно. Потому действие это чудесно магично; культ состоит не только из молитвы или обряда, но и таинств. В протестантизме потустороннее—отвлеченно и общение с ним не конкретно–жизненно, но метафизично. Протестантизм отрицает культ, а тем более таинства. Его удовлетворяет лишь абстрактная встреча с потусторонним миром, встреча в отвлеченном понятии, ибо сам этот мир есть не более как только идея, только понятие.
Что дает посюсторонний объективный мир, если его понимать как отвлеченное понятие? Он дает механистическую вселенную, так как все живое и ценное, повторяем, помещено в глубине человеческого субъекта; и объективная ценность, которую соглашается оставить этот нервный и капризный субъект объективной природе, — это быть только скелетом, пустой машиной, лишенной всякого внутреннего, человеческого или божественного, содержания. Вот почему основатель новоевропейской метафизики Декарт сразу обосновывает и примат мыслящего субъекта над бытием («мыслю, следовательно, существую»), и абсолютный механизм объективного мира, доходящий до того, что пустыми автоматами считаются и живые представители органического и одушевленного мира. Редко изучающие Декарта понимают эту глубочайшую связь его абстрактного субъективизма с его природным механизмом. А на самом деле только так и могло быть в эту эпоху (1596—1650). Слишком болезненно был заинтересован человек в том, чтобы утвердить себя как абсолют и превратить все немыслящее (все, что не res cogitans) в простое и пустое протяжение (res extensa).
Действует в этой картине мира только человеческий дух. Только ему принадлежит подлинная активность. Он хочет все понять и признает все только в меру его понятости. Непознаваемые бездны средневекового Абсолюта исчезли в рассуждениях хотящего все понять субъекта. Философия из мифологии стала абстрактным рационализмом. Она перестала интересоваться вещами в их личной неповторимости и существенности. Стали интересны лишь рационалистические схемы; и живой, наполненный всякими духами, большими и малыми, мир превратился в новейший мир механистического естествознания.
Человеческий субъект оказался на берегу безбрежного моря, темного и бесконечного. Он ощутил себя в океане бессмысленного бытия, ибо только он один есть смысл. И, ощущая себя бесконечно более ценным и глубоким, он осязает себя как победителя этого океана или, по крайней мере, как призванного к победе. Он устремляется к этой победе и не устает разыскивать способы побеждать. Но тут важны два мотива.
Прежде всего Абсолют, переставши быть личным и расслоившись на рационалистического человеческого субъекта и бесконечное темное пространство, мог признавать только эту бесконечность, которая в настоящее время уже больше полстолетия именуется потенциальной. Это не та бесконечность, признаваемая средневековьем или античным сознанием, которая целостно и привольно покоится сама в себе, как бы плещется в твердых очертаниях. Ее теперь называют актуальной бесконечностью. Она — всецело достояние антично–средневекового миропонимания (так что реставрация ее в современной математике есть отчасти реставрация именно средневековья) с тою разницею, что античность понимает эту актуальную бесконечность космически и материально, а Средние века — акосмически и духовно. Новое время осязает себя только в потенциальной бесконечности. Сущность ее в том, что предел никогда не достижим, он вечно снимается и отодвигается в неопределенную даль; и сколько бы ни двигался человеческий субъект к этому пределу, он никогда и нигде не может его достигнуть. В античной бесконечности бесконечность зависит не от отсутствия предела (который тут, наоборот, всегда наличен), но от особой внутренней ее структуры, от структуры того, что находится внутри этих пределов. А структура эта есть резкая выявленность внутреннего содержания, когда положенным и утвержденным оказывается каждый мельчайший момент этого содержания. Это есть определенность и целостность самого процесса дробления и выявления внутреннего содержания, так что, сколько ни дробится это содержание, в нем всегда присутствует целое во всей своей силе. Этого нет в Новое время. Абсолют здесь—темное бесконечное пространство, — нигде не очерчен, не охвачен границей, нигде не присутствует целиком. Его абсолютность не есть абсолютность самособранности, но абсолютность самопротивоположности, абсолютность всяческой внеположности, пребывания всякого одного вне всякого другого.
На бесконечном поле этого темного пространства, далее, мчится и рыщет человеческий субъект. Это второй основной мотив. Так как бесконечность тут только потенциальна, то субъект никогда не может найти тут удовлетворения. Его стремлениям и чувствам никогда не может быть положено никакого конца. Запад—это вечное стремление, горячечное и лихорадочное стремление и даже суматоха. Нигде ни в чем не видно ни начал, ни концов. Все превращено в движение, в стремление, вернее, в самый процесс движения и стремления. Отсюда это совершенно не античное, не средневековое учение о вечном прогрессе истории, это самозабвенное погружение в исторический процесс, это постоянное приключен–ство, авантюризм, прогрессизм и романтизм. Запад всегда спешит. Время для него—деньги. Время—это болезненно, нервно, а то и восторженно, упоительно протекающая жизнь, неустанное рвение и риск, искание все новых и новых ощущений, построений, борьбы. Это—тоска по неопределенным далям, которых и достигнуть никогда невозможно. Это не мирное и покоящееся в себе созерцание и самоудовлетворенное пребывание античности и средневековья. Это — сплошное движение, риск, борьба, страх, унынье и восторг, боль и победа, воля к охвату всего недостижимого и бесконечного, падения, взлеты, наслаждение и ужас, слезы и победный гимн.
Такое отношение к миру нельзя назвать непосредственно человеческим. Скорее, там, в феодализме, была эта непосредственность. Здесь важен не мир. Здесь важен только сам субъект. Мир нужен лишь как арена действий человеческого субъекта. Субъект поглощает все объективное, и, не будучи в состоянии воплотить его субстанциально, уничтожить его в себе как тело, как материальную массу, он поглощает его смысловым образом, идейно, постоянно направляя свое сознание на объективное бытие, с тем чтобы выжать из него все смысловое, все идейное, все рационалистическое, что в нем есть. Если мир с его бесконечным протяжением есть арена для субъективных чувств, то субъект погружается в это бытие и затрачивает свои способности с единственной целью набрать новых чувств, пережить заново и заново это бытие, упиться новыми чувствами и потонуть в них.