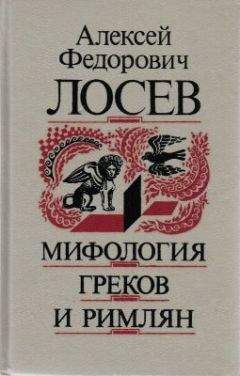Алексей Лосев - Хаос и структура
Из прикладной механики мы знаем, что вращающий эффект пароходного руля пропорционален cos х–sin2 х, где χ есть угол с линией киля[220]. Если мы изучим теорию максимумов и минимумов в математическом анализе, то мы легко можем, напр., определить χ в условиях наибольшего эффекта пароходного руля. Что при решении подобной задачи мы как–то конкретизируем отвлеченный математический анализ и как–то приближаем его к жизни, это факт. Но как мы его здесь конкретизируем и к какой жизни приближаем? К какой угодно, но только не к социальной, не к человеческой. Из того, что пароход со своим рулем и килем существует в человеческой обстановке, нисколько не вытекает, что мы его и понимаем обязательно человечески. В человеческой обстановке существует, напр., сам организм человека, с сердцем, легкими, мозгом и пр.; и это совершенно не значит, что мы его понимаем человечески и даже вообще понимаем. До сформирования анатомии как науки люди уже жили тысячелетия и почти ничего не понимали в своем собственном организме. Точно так же и в случае с «техническим» пониманием парохода. Технически понимать что–нибудь совершенно не значит понимать исторически, социально, экономически. Мы можем иметь очень смутное представление о пароходном руле и киле и все–таки решить приведенную выше задачу. Ее можно формулировать примерно следующим образом: при каком χ получается наибольший вращающий эффект чего–нибудь, если этот вращающий эффект пропорционален величине cos х–sin2 χΊ Таким образом, чтобы решить техническую задачу, вовсе не обязательно даже предметно ясное представление тех объектов, к которым эта задача относится. Если же такое представление и налично, то оно, взятое само по себе, ровно ничего исторического в себе не содержит; это просто арена применения чистой математики, от которой много получает сама арена, эти самые сооружения и машины, но ровно ничего не получает математика и, можно сказать, никак не конкретизируется, если под конкретизацией не понимать возникновение тех или иных комбинаций уже имеющихся чисто теоретических построений.
Итак, все виды прикладной математики не выявляют культурно–социального и человеческого лика математики. И если задаваться целью действительно жизненного понимания математических наук, то необходимо искание для этого совсем других путей. Техника, лишенная духовно–творческой, культурно–стилевой, производственно–трудовой базы, есть только сама же отвлеченная математика, и больше ничего. Ее конкретность не более той, на которую способна чистая математика своими собственными отвлеченными силами.
2. Феодальный стиль. В этом сочинении нам предстоит дать историко–культурное введение не во всю математику (для чего понадобилось бы гораздо больше времени и труда, чем то, [что] отведено на это сочинение), но только введение в анализ, т. е. введение в исчисление бесконечно–малых, в дифференциальное и интегральное исчисление. Не будем пугаться слишком далеких экскурсий в историю. Они будут не очень продолжительны. Однако без них невозможно никакое понимание исторической сущности анализа.
Всем известно, что дифференциальное исчисление создано Ньютоном и Лейбницем во второй половине XVII века. Всмотримся в философско–исторические перспективы этого знаменитого столетия, когда, можно сказать, была создана почти вся основа современного научного миропонимания.
XVII век — век восходящей европейской культуры, западной культуры. А западная культура—культура абсолютизированного человеческого субъекта, культура глубин и исканий изолированной человеческой индивидуальности. В этом корень и основа всей европейской культуры.
Средневековая культура есть эпоха трансцендентных ценностей. Человек здесь со своей личностью скромен. Он подчинен потустороннему. Как бы мы сами ни относились к этому потустороннему, сознание средневековое, несомненно, ставит само себя в зависимость от потустороннего. Потустороннее—целый мир, целое «царство небесное», гораздо более крепкое и ценное, чем этот мир. Там — вечность, там—истина, там — незакатное солнце разума и правды, а этот земной мир—текущ, преходящ, суетен, темен. В нем нельзя рассчитывать на долговременное устроение или тем более счастье. Человек ничто. Вернее, он только точка, не имеющая ни одного измерения, перед всемогущей вечной божественной субстанцией. Земным никогда и не стоит за<…>[221] есть не больше как замкнутое натуральное хозяйство. Она никуда не стремится, рынки ей не нужны. Средневековый человек делает все сам для себя, делает только в силу своих личных потребностей и личной жизненной необходимости. Эволюция средневекового хозяйства самая примитивная. Веками стоит на месте один и тот же способ производства; веками не растут цены, если они получили где–нибудь определенное выражение. Нет ни банков, ни бирж с их горячками и кризисами, ни производства, имеющего целью бесконечное накопление. Большое накопление тут и невозможно, и экономически бесполезно. Скряга и ростовщик могут делать накопления, но они лежат у них мертвым капиталом, который может доставить им какое угодно удовлетворение — эстетическое, кровожадно–деспотическое, просто житейски–эгоистическое и пр., но только не экономическое, не финансовое. Это то же, что и накопление ценностей в церквах и монастырях. Это накопление ничего общего не имеет с капитализмом, так как последний меньше всего определяется абсолютными величинами накопления.
Ни философия, ни наука, ни искусство не могли в ту эпоху получить самостоятельного значения. Все это предполагает дифференцированный человеческий субъект, в котором развита то сторона чистого рассудка, то сторона чистого чувства, то сторона чистого воображения. Но все эти стороны для средневекового человека есть только стороны (и притом не самостоятельные) абсолютного личностного бытия; и он никогда не станет развивать их так, чтобы они получили ту или иную неравномерную нагрузку. Философия здесь подчинена религии, наука подчинена религии, искусство тоже подчинено религии. Ибо религия как раз и давала эту абсолютно личностную, объективно иерархическую, индивидуальную структуру бытия. Можно сказать, что тут все имеет только служебное значение. Тут все гетерономно, а не автономно.
И математика здесь не самостоятельна и ограничивается античным созерцательным геометризмом и элементарным арифметиз–мом. Больше ничего не нужно было. И даже самого вкуса к чистой математике не было и не могло быть. Все это было бы бесцельно и бесполезно, как то накопление (к тому же очень редкое) ценностей, которое ни на что нельзя было употребить.
Для примера приведем хотя бы то, что древние называли «способом исчерпывания». Европейское представление очень простое: круг есть предел правильного вписанного многоугольника с бесконечно возрастающим числом сторон. Но для этого простого представления надо иметь чувство бесконечности [наряду ] с идеей предела. У древних же не было ни того, ни другого. И вот простейшее положение вроде 2–го в XII книге «Начал» Эвклида («круги относятся как квадраты, построенные на их поперечниках») доказывается путем длиннейшего и утомительного рассуждения на основе «способа исчерпывания» вместо нашего простого способа пределов. Делается это потому, что мысль связана здесь наглядно–чувственным геометризмом, связана вещественной цельностью и избегает понятий чистой, не–наглядной бесконечности и абстракции предела. Простую истину (a+b)2 = а2+2ab+h2 Эвклид (11, теор. 4) доказывает путем деления линии на два отрезка и построения на них квадратов с удвоенным прямоугольником из них. Там же (11, теор. 5) находим геометрическое построение, которое теперь просто записывается:
ab+() = 2
Изучающий антично–средневековую математику на каждом шагу убеждается в такой статической созерцательности данного типа мысли.
3. Западноевропейский стиль. Западноевропейская культура Нового времени началась с разрушения средневекового принципа трансцендентных ценностей. Вместо безразличного самоотдания потустороннему миру новое сознание переходит в свою диалектическую противоположность этого: там—всецелое утверждение потусторонней субстанциальности и признание за человеком лишь относительного и условного существования, здесь — утверждение этой земной субстанциальности человека как такового, требование прав для самостоятельного существования человеческого субъекта. Все ценное, что видел или предчувствовал человек в объективном мире, потустороннем или земном, он поместил в себя, в глубину своей личности. Он все это захотел сам создать в себе и из себя, как будто бы сам он был той универсальной, абсолютной личностью, о которой раньше ему говорила его средневековая религия. Человек никогда не останавливается на полумерах. Если отдельная личность может колебаться, сомневаться, быть нерешительной, то его эпоха и культура обдумывают его идеи до последнего конца, безжалостно делают все выводы, какие только возможны. Начинал европейский человек с очень простого и естественного желания — быть самим собою, с требования для себя естественных прав и освобождения своей личности. А пришло это к полному обожествлению и абсолютизации личности, так что в конце XVIII в. будет уже неудивительно, если Фихте из Я станет выводить и всего человека, и природу, и сам Абсолют.