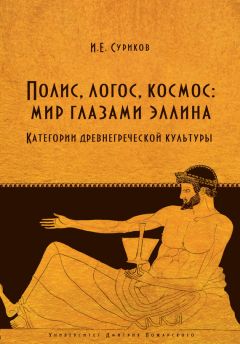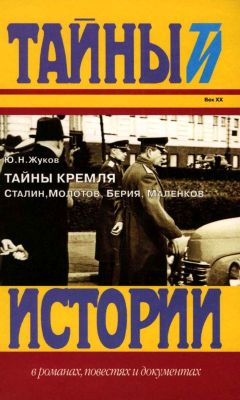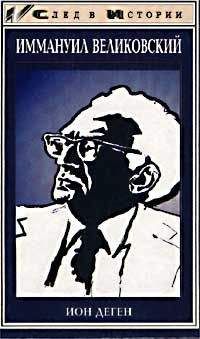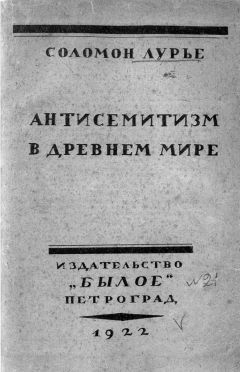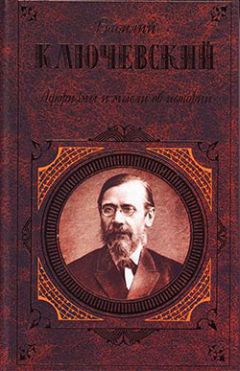Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма
Фотография vs. снимок – центральная коллизия истории советской фотографии. Снимок есть чистый «глаз»; фотография – это «язык»: в ней прочитываются эстетические («как снять»), идеологические («гордость и радость») и, наконец, политические («социалистические факты») слои – те измерения, в которых «снимок» используется лишь как «подсобное средство». Как показала М. Тупицына, центральная коллизия «Снимок vs. Фотокартина» (Photo‑Still versus Photo‑Picture) реализовалась в советских условиях в борьбе фотомонтажа и фактомотажа[741]. Переломным она называет 1932 год, когда фактография начала заменяться сталинскими или мифографическими образами и более органическими композициями[742] (как мы видели, именно в это время в «НД» начинается беллетристическое разложение «документального очерка»), а в 1939 году в работе над оформлением центрального павильона ВСХВ Эль Лисицкий заменит фотомонтаж картиной, соцреалистические картины начинают заменять фотографии и в «СССР на стройке». Между тем фотомонтажа на ВСХВ от этого не убавилось, и рецензенты жаловались на его засилье, на «однообразие, снижающее впечатление»[743].
Именно в оформлении ВСХВ распад фотоформы достиг предела. Помимо экспериментов с фактурой (фотопечать на стекле, шелке, металле, дереве и других материалах), здесь использовалась замена цветного фото его имитацией – ручная раскраска фотографии масляными красками применялась, например, в павильоне «Москва» (худ. Д. Чечулин) – в результате получалась не столько имитация фото, сколько имитация живописи. В павильоне «Животноводство» (худ. В. Каждан) был широко применен т. н. «фотобарельеф»: фотографии придавалась объемная форма, искажающая изображение, рассчитанное на прямую плоскость[744]. Во всех этих экспериментах с фотографией легко проследить одну тенденцию: отказ от фиксации «документальности» фото за счет акцентирования его «миметичности». Отсюда – переход от фото к живописи и барельефу. Отсюда – отказ от монтажности, всегда «обнажающей прием» и тем самым открывающей «искусственность», «сделанность» «фотофакта» в противовес его «миметичности».
«Говорящий глаз», оптика которого разрабатывалась в лаборатории горьковских «Наших достижений», оборачивается «видящим языком», лабораторией которого стал горьковский же журнал «СССР на стройке». Если «НД» был первым и самым любимым журналом Горького, то спутник «НД» (задумывавшийся поначалу как фотоприложение к «НД») – «СССР на стройке» оказался единственным выжившим из горьковских журналов (он впоследствии превратился в журнал «Советский Союз», выходивший на 18 языках до последних дней советской власти; при Горьком он выходил на четырех языках – русском, немецком, английском, французском). Есть глубокий смысл в том, что этот практически немой журнал был единственным изданием, выходившим на иностранных языках.
При первом, еще беглом просмотре годовых комплектов журнала за 30–е годы кажется, что имеешь дело с простой сменой визуальных стратегий: вначале это просто неприхотливые «картинки» советского строительства, затем усиливается роль подтекстовок, затем появляется художественное фото, снимки тематизируются, так что к концу 30–х годов журнал превращается в своего рода «Огонек» с авторскими очерками. Эта эволюция схожа с той, какую проделали почти за десятилетие своего существования «НД» – от «документального очерка» к «очерковой новелле». Но подобно тому как «язык» «НД» был фактически «говорящим глазом», «картинки» «СССР на стройке» были настоящим «языком»: при тщательном разглядывании начинаешь понимать, что в «СССР на стройке» имеешь дело с мнимой визуальностью. За ничего не «отражающей» фотографией находится не обычный «язык фотографии». Это не просто тренировка глаза через отбор и сериализацию образов, через выбор точки зрения, но тренировка в контекстуализации и интерпретации «увиденного». Визуальная процедура только скрывает вербальные операции, которые она фактически производит. Операции, направленные на то, чтобы устранить всякий зазор между «показанным» и «увиденным». Чем меньше слов в «СССР на стройке» (а их там был изначально самый минимум – только короткие заголовки под снимками), тем интенсивнее «внутреннее задание» увиденного. Это и был «видящий язык».
Не случайно в открывавшей фотожурнал в 1930 году передовой статье говорилось именно о языке: «Язык цифр, диаграмм, словесных описаний, плановых инструкций не для всех убедителен даже внутри нашей страны, а за рубежом […] язык наших цифр, статей, диаграмм всегда заподозревается в искусственности, преувеличениях, всегда опорочивается»[745]. Интересно, что неубедительными и подозреваемыми во лжи объявляются не сами цифры, но именно язык, «словесные описания». Фотография выступает здесь в функции свидетельства. Интересно также объяснение того, с какими трудностями сталкивается фотография: «Переворот, происходящий в хозяйстве, огромен. Он с трудом усваивается нами умозрительно и, понятно, с еще большим трудом его можно будет охватить изобразительно»[746]. Между тем очевидно, что противопоставление этих двух форм восприятия мнимое: этот «переворот» (под которым тут понимается чисто внешнее «социалистическое строительство») очень легко охватывается как «умозрительно», так и «изобразительно». Проблема возникает тогда, когда под вопрос ставится сама функция этих форм восприятия, когда проблематизируется сам «переворот». Действительно ли, как утверждала редакция, для нас «изображают» хозяйственный переворот и помогают переварить его «умозрительно»? Дело, как представляется, в ином. Прежде всего, здесь ничего не изображается. Функция «изображения» подчинена в этом фотожурнале моделированию, во–первых, самого объекта («стройки»); во–вторых, субъекта съемки (фотографа, а также самого глаза/камеры) и, наконец, в–третьих, реципиента (зрителя).
«Фотография, – писала Сюзан Зонтаг, – подводит нас к мысли о том, что мир известен нам, если мы принимаем его в таком виде, в каком он запечатляется фотоаппаратом. Но такой подход противоположен пониманию, которое начинается с неприятия мира, каким он нам непосредственно дан […] репродуцирование реальности фотоаппаратом должно всегда больше скрывать, чем раскрывать. Фотография заводов Круппа, заметил как‑то Брехт, ничего не говорит нам об этой организации. В противоположность отношению влюбленности, основывающемуся на том, как некто выглядит, основой постижения является то, как нечто функционирует. Функционирование же протекает во времени и во времени же должно быть объяснено. Поэтому постигнуть нечто мы можем исключительно благодаря повествованию»[747]. Вот почему «НД» и «СССР на стройке» следует рассматривать как единый медиальный проект, имея в виду, что речь идет о встрече языка и фото в медиальном пространстве сталинизма.
Указывая на эту схожесть фото и языка как изначально медиальных феноменов, Зонтаг писала, что, подобно тому как из языка может быть создан научный дискурс, бюрократический меморандум, любовное письмо, список покупок в гастрономе и Париж Бальзака, из фотографии можно создать снимок для паспорта, порнографическую картинку, свадебное фото, рентгеновский снимок и Париж Атгета. Поэтому фотография, не являясь художественной формой, в состоянии «превратить все свои предметы в произведения искусства»[748]. Этот потенциал фото и языка и был использован в горьковских проектах: в том, как очерк в «НД» превращался в новеллу, а фотография в «СССР на стройке» – в живопись, сказался мощный эстетически–преобразующий потенциал медиальных практик. С другой стороны, «важность фотографических образов как среды, через которую все больше и больше событий входит в наш опыт, является, в конце концов, только побочным продуктом их эффективности как производителя знания, диссоциированного и независимого от опыта»[749]. Социальные функции этой среды сводятся к дереализации жизни.
Итак, в 1930–1932 годах мы видим на страницах журнала бесконечные картины строительства и производства – именно в них реализуются «достижения». Журнал создает объект. В первом же номере за 1930 год фотографии посвящены «Азнефти»: перед нами – трубы, станки, нефтяные вышки; дальше идет новый хлебзавод: печи, месилки; затем завод «Электросталь»: многоцилиндровые двигатели, бесконечные пролеты цехов; кабельный завод в Ленинграде: огромные катушки кабелей, турбинные цеха; судостроительный завод в Ленинграде: суда–холодильники; Ростовский тракторный завод: новая техника; совхоз «Гигант»: молотилки, комбайны, трактора, электробороны, элеваторы; электростанции Закавказья: плотины, турбины, стройплощадки…
В следующем номере (1930. № 2) «столица советского текстиля» Иваново–Вознесенск. На весь разворот – прядильная фабрика им. Дзержинского и надпись: ««Русский Манчестер» стал «Советским Манчестером»». На снимке – фабрика – унылое длинное здание. Перед ней, на первом плане – пустырь, ни единого деревца, пыльная, незаасфальтированная улица, похожая больше на проселочную дорогу. Справа тянется деревянный забор, за которым – свалка, бурьян выше самого забора. Вообще на всех этих фото интересен ландшафт, окружающий новые постройки: грязь, бездорожье, груды мусора, иногда – телега с лошадью с понурой головой; на заводских дворах – свалка, бурьян, покосившиеся деревянные постройки, валяются трубы, доски, детали, строительные отходы. Рядом с фотографиями новых заводских построек обычно идут «новые дома для рабочих». Это либо вполне современные конструктивистские здания, либо – одноэтажные домики с чахлыми кустиками по бокам. Но вокруг – развалины, покосившиеся бараки, грязные ковыряющиеся в носу дети, с любопытством смотрящие в камеру.