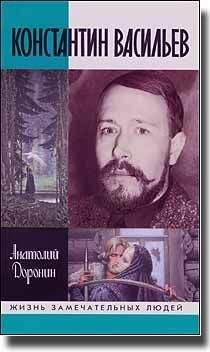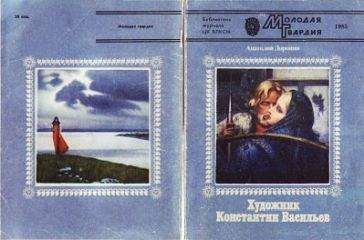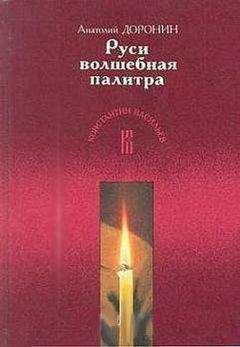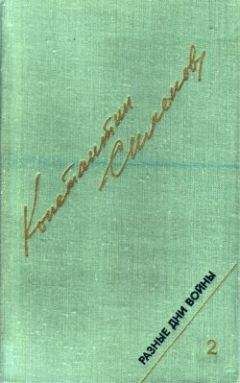Олег Буткевич - Красота
Фанатическая приверженность художника к своему нелегкому, часто неблагодарному ремеслу, его неистребимая преданность, казалось бы, бесполезному делу и то упорство, с которым он идет к цели вопреки всем жизненным невзгодам, вопреки трудностям, нередко вопреки общественному мнению, как и то великое чувство ответственности перед собственным призванием, которое не позволяет художнику соглашаться, если он истинный художник, ни на какие компромиссы в искусстве, объясняются в этой связи одним: художник не властен поступать иным образом, он не может иначе. Не может потому, что, творя искусство, выполняет не чье-то житейское задание и не руководствуется просто своеволием, но выражает, сам не всегда сознавая это, всеобщую тенденцию саморазвития мира, воплотившуюся и его таланте и волевой творческой энергии. Он так же неспособен изменить правде своего искусства, как ученый не способен предать истину.
Его устами, когда он творит, в буквальном смысле глаголет вечность. Его рукой движет несоизмеримая ни с какими житейскими усилиями энергия мироздания. В его вдохновении слышен отзвук дыхания мировых катаклизмов, рождающих новые миры.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Субъективно художественная одержимость, толкающая художника на подвижничество «во имя искусства», может осознаваться очень по-разному, но чаще всего ощущается как необходимость поиска правды, которую он, художник, призван сказать людям. «Глаголом жги сердца людей!»... И это естественно, так как именно раскрытая художественно правда действительности в ее сущности и развитии и рождает красоту искусства.
Всякая ложь делает бессмысленной саму деятельность художника, ибо ложь несовместима с правдой, а следовательно, и с идеей красоты. Даже посредственность ищет правду в прямом копировании внешности явлений, безвредном и попросту лишнем для искусства, если посредственность не начинает диктовать своей утлой веры окружающим. Талант же открывает правду в активном, художественном преобразований: действительности, в творческом поиске, ее глубинных сущностей. Правду жизненных ситуаций, правду предметов и явлений, правду ритма, формы или цвета.
В меру своей художественности искусство не способно ни лгать, ни ошибаться. Если оно лжет сознательно, даже из самых лучших побуждении автора, — оно изменяет самому себе и становится нехудожественным или антихудожественным, то есть перестает быть искусством. Если же оно заблуждается, то в его искренних заблуждениях, пока оно все еще художественно, неизбежно присутствует и доля правды, определяющая собой степень его художественности. Потому что художественная идея, именно в качестве художественной, есть всегда своеобразное, индивидуальное в смысле исполнения, но правильное, выражение всеобщей тенденции развития самой действительности.
«...Искусство всегда, в высшей степени верно действительности, — писал Ф. Достоевский, — уклонения его мимолетные, скоропроходящие; оно не только всегда верно действительности, но и не может быть неверно современной действительности. Иначе оно не настоящее искусство. В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно-полезно [...] Уклонении и ошибки могут быть, но, повторяем, они преходящи. Искусства же несовременного, не соответствующего современным потребностям и совсем быть не может. Если оно и есть, то оно не искусство; оно мельчает, вырождается, теряет силу и всякую художественность» 23.
Мысль о сущностной, изначальной правильности искусства как формы общественного сознания Достоевским высказывалась неоднократно. Однако великий гуманист, озабоченный думами о смысле и значении искусства для человечества, не мог себе и представить всей глубины падения современного модернизма, скромной предтечей которого в известной мере оказалась защищаемая им от критики И. Добролюбова концепция «искусства для искусства» шестидесятых годов прошлого века. Отягощенные опытом минувшего столетия, мы сегодня уже не способны со святой убежденностью Достоевского утверждать, что «уклонения и ошибки» искусства непременно «скоропроходящи», Деградация и одичание буржуазной культуры XX века говорят о многом.
И все же правда в данном случае не на стороне печальных фактов. Они свидетельствуют лишь о возможности весьма длительных блуждании потерявшего себя общественного сознания. Правда — в бескомпромиссной взыскательности крупнейшего реалиста, оставляющего за искусством право быть только настоящим искусством. И факты все большего разложения модернизма лишь подтверждают мысль о том, что это «искусство» — не настоящее искусство, что искусство модернизма предало изначальную сущность искусства — «верность действительности», — и это предательство стало его проклятием, повсеместно и постоянно преследующим и уничтожающим его, подобно тому, как горящий глаз совести, и во мраке могилы преследовал Каина в знаменитой поэме Виктора Гюго.
Исторический парадокс (впрочем, вполне поддающийся объяснению) заключается в том, что буржуазное искусство капитулировало — как правильная форма сознания — и обернулось модернизмом именно тогда, когда научная истина проникла, наконец, и в область людских взаимоотношений. Более или менее фантастические общественные идеалы прошлого не только сами оказались несостоятельными перед натиском новых, революционных и одновременно теоретически обоснованных, истинных идей, но, разрушаясь и разлагаясь, увлекли в своем низвержении то самое искусство, которое столько веков было, по существу, главной формой их осознания и воплощения.
Есть грустная ирония в том, что Гегель, завершая классическую домарксистскую мысль и как бы предчувствуя новую социальную философию, эгоистически покончил с искусством, предрекши ему гибель, дабы оно не смогло стать носителем и выразителем того, что не вмещалось в его систему. Хотя, конечно, и он не мог предположить, что реальная гибель буржуазного искусства будет столь позорной, столь недостойной прекрасных слов, которые он сказал о своем идеале.
Однако погибло искусство лишь частнособственнического мира. Рождение и становление новых социальных идеалов, принципиального переустройства человеческого общества, идеалов коммунизма закономерно вызывали огромную духовную энергию, давшую начало великому искусству нового строящегося общества — новому могучему рычагу общественного развития.
Ведь художественная идея - это не констатация и не иллюстрация развития, ретроспективно фиксирующая уже пройденные этапы, но, подобно истинной научной идее, — одна из необходимых, движущих его сил. Ее деятельная, эмоционально-волевая энергия направлена не на обозрение прошедшего и не на исследование настоящего (хотя и то и другое может быть содержанием искусства), но на активное приближенно, становление будущего. Она всегда, что бы ли изображал художник, поскольку он создает действительно художественный образ, есть прозрение будущего. Даже тогда, когда фактическим предметом изображения является настоящее или минувшее. «[...] Смотреть художественно честно, — писал Александр Блок, — и значит, смотреть в будущее» 24. По степени своей художественности художественная идея, раскрывая гармонические связи развития, создавая красоту и тем самым формируя творческое начало общественного сознания, неизменно влечет в будущее. Такова ее сущность.
Эта способность искусства прозревать будущее, словно бы общаться с высшими сферами, недоступными простым смертным, во все века в большей или меньшей степени осознавалась как самими художниками, так и теми, кто с ними соприкасался. В древности художники нередко казались сродни жрецам и ясновидцам. Сильные мира сего, своевольно распоряжаясь судьбами, приближали к себе художников, не без основания видели в искусстве огромную силу воздействия не только на современников, но и на потомков, понимали, что именно оно способно навсегда запечатлеть в памяти поколений преходящие деяния и быстротечную славу самых могущественных правителей. Требуя изображать себя и свои подвиги в одах, фресках, монументах, последние не могли не ощущать известной зависимости от этих «не от мира сего людей, над вдохновением которых они не были властны.