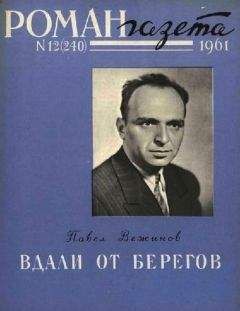Сергей Аверинцев - От берегов Босфора до берегов Евфрата
То же упоение слезами, которое ощущается в истории Алексия, лежит в основе хотя бы легенды об Археллите (это сирийско- коптское искажение греческого имени Архелладий). Легенда эта дала тему едва ли не лучшему произведению коптской поэзии. Сюжет ее таков: единственный сын знатной константинопольской вдовы — снова единственный сын! — отправляется учиться в дальние города, но пронзен мыслью о человеческой бренности и поступает в палестинский монастырь, где дает обет вовеки не видеть женского лица; до тоскующей матери доходят слухи о монашеских трудах ее сына, она приезжает в обитель и молит Археллита о встрече. Этим обусловлена безвыходная коллизия. Юноша не в состоянии ни отказать матери, ни нарушить обет, и ему остается тут же умереть с разбитым сердцем; мать оплакивает его и сама находит успокоение в смерти.
Нужно представить себе, как вникали люди той среды в подобные рассказы. Создаются совершенно особые понятия восточно-христианской культуры, выражаемые греческими словами «элеос» и «катаниксис»: первое — «умиление», то есть любовь как жалость и милость, любовь с заплаканным лицом, второе — «сокрушение сердечное», сосредоточенно принимаемая боль души. Расположение к слезам оценивается как высокое духовное дарование — «дар слезный», — и его испрашивают себе в молитвах. Разумеется, в идеале это не просто чувствительность или растроганность, но мука сосредоточенного духовного пробуждения, когда душа словно вырывается из силков «мира», обдирая на себе кожу. Так оно и было — для немногих или, может быть, для многих в немногие моменты их жизни, от которых на всю жизнь оставалось разве что смутное воспоминание. Если говорить о читательской массе, ее душевная жизнь не могла не быть очень пестрой; а жития и апокрифы писались именно для массы. Читатель есть читатель, особенно на Ближнем Востоке тех времен, и он попросту очень любопытен, он не перестает искать развлечения и пищи для фантазии, может быть, еще и сладкого ужаса — как гимнастики для эмоций и шоковой терапии для своих душевных травм или попросту способа забыть на время о докучной обыденщине. Все это вовсе не исключает запросов более серьезных, но причудливо с ними перемешивается, модифицирует их, ставит в какой-то свой контекст.
Может быть, нам, наследникам старой русской жизни и русской литературы, легче понять сформировавшийся на этой основе строй повествовательного искусства и читательского восприятия. У нас его отголоски загостились особенно долго и ушли сравнительно недавно. В прекрасном бунинском рассказе «Святые» дряхлый и одинокий старик Арсенич, бывший дворовый буфетчик, рассказывает впечатлительным барчатам житие «блудницы и мученицы Елены». Рассказывает он как надо, не торопясь, давая себе и слушателям всласть, до слез насладиться грозной выразительностью диковинных слов и душераздирающих ситуаций.
«...И вот извольте подумать: что она должна была прочувствовать в этом случае? Может, одна Фекла-странница то испытала в сновидении, в хождении своей души по мукам. А ведь, однако, один платочек белый, какой она подала нищему страннику и какой ангел на весы, в посрамление бесам, кинул, и тот спас ее, всех ее грехов тяжелее оказался!
— А зачем ее выгнали в лес? — спросили дети.
— А куда же-с? — ответил Арсенич. — Конечно, в лес дремучий, непроходимый...
— Где орлы скрыжут, — добавил Вадя.
— Истинно-с, где орлы скрыжут и всякий зверь необузданный съесть может, — повторил Арсенич с горьким торжеством. — Где дивья темь лесная и одна скала-пещера могла служить ей приютом!..»[21]
Этот буфетчик Арсенич, который сам говорит про себя, что у него «душа не нонешняго веку», — последнее звено в преемстве тянущейся через века череды рассказчиков, странников и странниц, слепых нищих, «певших Лазаря», грамотеев-начетчиков; а мы занимаемся как раз началом этой самой череды. Звучащее в его голосе «горькое торжество» — отголосок того, которое вдохновляло первые рассказы о нищенстве Алексия и сердечном надрыве Археллита.
Простые люди с очень давних времен любили два способа описывать жизнь: во-первых, притчу, во-вторых, то, что мы грубо и совсем не терминологически назовем мелодрамой. Любили они и то и другое, наверное, потому, что были достаточно просты, чтобы знать, до чего жизнь похожа на притчу — и до чего она похожа на мелодраму. У мелодрамы худая репутация, но это бы еще не так важно; важнее, что у нее и впрямь есть большой недостаток. Недостаток этот — вовсе не нарушение вкуса и меры (как будто жизнь соблюдает правила вкуса и требования меры!), но отсутствие места для спокойного размышления. Она заставляет простодушного человека дрожать, плакать и ликовать, но отказывает ему в возможности задуматься, очнуться, выпутаться из бестолкового переполоха эмоций. Поэтому так важно, что в литературе, о которой мы говорим, пронзительность мелодрамы всегда уравновешена и дополнена внятной рассудительностью притчи, так что читатель и сквозь слезы может смотреть отрешенным взглядом поверх сюжетных положений. Он плачет вместе с матерью Археллита, но он видит дальше, чем она. Он видит, что жизнь и смерть добровольных страдальцев — не прискорбный случай, а задуманная и достигнутая победа. Поэтому мелодрама здесь уже и не мелодрама, а ее противоположность; какая же это мелодрама, если дело не в «счастливом» и не в «несчастном» конце? Даже там, где счастливый конец есть и где он важен, как в «Повести о Иосифе и Асенеф», есть что-то, что гораздо важнее, не только смысловой, содержательный, но даже чисто эмоциональный центр повести — не торжество добрых персонажей над заговором злых, а переворот в душе героини, ее «обращение» и «покаяние». После такого огненного опыта, такого ужаса и блаженства в конце концов не так важно, будет ли Асенеф «жить долго и счастливо» с обожаемым супругом или умрет от руки Дана и Гада. Этим жития и апокрифы в корне отличаются не только от мелодрамы, но и от сказки, каким бы сказочным ни был порой их колорит; ведь для сказки житейский успех остается в чести, а здесь он попирается ногами. Палладий рассказывает про юродивую монахиню Тавенисского монастыря в Египте, которая много натерпелась от других монахинь, всячески ее обижавших; когда отшельник авва Питирум открыл ее святость, она ушла из монастыря и канула в неизвестность. С легкой руки немецких религиеведов первой четверти нашего века в этой истории принято видеть попросту благочестивое «переодевание» сказочного мотива Золушки1; но разве это правда? Соль всех сказок про Золушку — в счастливом конце. Соль истории про юродивую монахиню как раз в том, что для нее такой конец — несчастливый, и она отменяет его, уходя неведомо куда, чтобы все началось с начала.
Можно ли называть то, к чему ведут читателя лучшие тексты такого рода, «катарсисом»? Если слово это слишком неразрывно связано в нашем сознании с тем, с чем связывал его Аристотель, то есть с трагическим началом, лучше обойтись без него: трагическое начало здесь решительно невозможно, все имеет принципиально иную тональность, как-то иначе звучит — то ли по-детски, то ли по-старчески, но смирнее; больше слабости, но и больше надежды, чем допустимо в трагедии. А может быть, есть какой-то иной катарсис, кроме трагического? Но дело не в словах. Как это ни назвать, суть остается той же: глаза плачут и сердце уязвлено, однако и согрето, на душу сходит мир, а мысль яснеет и твердеет.
Каким же видится мысли в таком состоянии мир? Есть несколько простейших символов, без которых тогда не могла обойтись ни одна вера и ни одна литература. Назовем два из них: это пещера и жемчужина.
Пещера — это мир, весь дольний мир мрака и несвободы. Он потому и пещера, что в нем темно и тесно душе, что он замкнут и застит от ума свет, разлитый за его пределами. Конечно, эпоха, о которой мы говорим, не впервые изобрела уподобление материального космоса — пещере; когда-то, как известно, к нему прибег еще Платон, представивший (в начале VII книги своего «Государства») чувственное сознание как сознание узника в подземелье, который видит лишь тени предметов, падающие из зоны света, но не может увидеть ни самих предметов, ни источников света. Под конец античности этот образ приобрел большую популярность, задевая очень чувствительные струны в душах людей; неоплатоник Порфирий, написавший трактат «О пещере нимф», соединил платоновскую метафору с эмблематикой мистерий иранского бога Митры, которые вошли в моду на самом закате средиземноморского язычества, подготавливая воображение к образности манихейства.
Из Ветхого Завета выплывало древнее ближневосточное представление о «небесной тверди», накрывающей землю, как шатер или сводчатое перекрытие, и через него символ пещеры обретал конкретную, пластическую наглядность: внутреннее пространство пещеры — это «поднебесный» мир, свод пещеры — «твердь», вольное пространство вне пещеры — "занебесный» мир" [22].