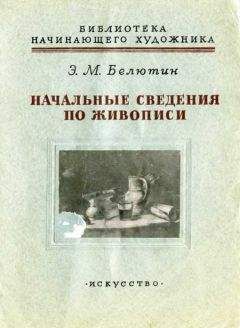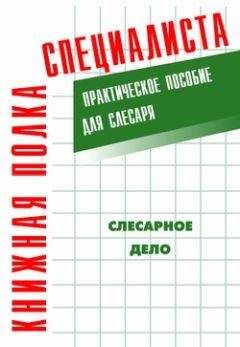Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба
ЗГ: Как же это произошло?
ВБ: У меня была малярия. Знаете, совершенно невозможно понять или предсказать ее приступы. Все вроде бы нормально — и вдруг на человека налетает приступ малярии, его до костей пронизывает холод, начинает трясти лихорадка. Кажется, что в этот момент пойдешь на все, лишь бы немного согреться. Не скажу, чтобы приступы эти у меня часто повторялись, но один случился в последний день войны. Моя батарея стояла, окруженная кустиками, на небольшом холме. Как только я почувствовал лихорадку, лег под один из кустов, а мои солдаты накрыли меня чем попало: и шинелями, и кусками материи, и тряпками, короче, всем, что было под рукой. В конце концов я немного согрелся и, конечно, заснул. Проснулся я на закате, темнело быстро, но самое странное то, что я совершенно один. Я тихонько выбрался из кучи тряпья и сначала вообще ничего не понял; там, в двадцати шагах от меня, где должна была стоять моя батарея, было пусто, да и вообще моих нигде не было. Однако неподалеку раздавалась немецкая речь, и один из немцев, как мне показалось, с интересом поглядывал в мою сторону. Я опять забрался под свое тряпье и старался не шевелиться. К счастью, его позвали товарищи, и они все двинулись в другую сторону. А ночью я пробрался к своим.
ЗГ: Какая страшная история… А что же на самом деле произошло?
ВБ: Они получили приказ немедленно перевезти батарею и, неспавшие, холодные и голодные, принялись механически, как зомби, его выполнять. И просто забыли про меня. Тем более что солдатам, которые уложили меня под тот куст, еще раньше приказали перевезти что-то в тыл. И случилось это в ночь, когда Германия уже капитулировала, то есть официально войне пришел конец. Однако мы еще не встретились тогда с американцами, и отдельные немецкие части не верили в то, что война закончена. Наше военное командование, захватив весь автотранспорт, поспешило на встречу с американцами; нам велели двигаться самим в том же направлении. Вот мы и потянулись, не всегда в военном порядке, но тем не менее, насколько могли, в хорошем темпе и довольно часто встречая на пути отдельные немецкие части.
Австрийское гражданское население было довольно дружелюбно настроено: белые полотнища были вывешены в окнах на протяжении всего пути; иногда они бросали нам цветы, а однажды вместо цветов нам подарили конфеты, мы называли эти карамельки «подушечки». Вы знаете этот сорт?
ЗГ: Еще бы! Дядя Коля, товарищ военных лет моего отца и его денщик в последние годы войны, всегда, приезжая из деревни, привозил нам с сестрой гостинец — эти самые «подушечки».
ВБ: А я и до сих пор помню вкус этих карамелек, да и вообще конфеты люблю — наверное, потому, что в детстве они были для нас редким лакомством (смеется).
ЗГ: Василь Владимирович, у вас такой великолепный смех! За все время интервью вы впервые рассмеялись так беззаботно. Хотя, конечно, все то, что мы обсуждаем, в основном не вызывает смеха…
* * *
Телефонный звонок из Италии прервал наш разговор, и потом мы немного поговорили о нем. На несколько минут к нам присоединилась Ирина Михайловна, жена Василя Владимировича. Она сказала, что итальянцы очень любят прозу ее мужа — его популярность в этой стране началась с романа «Альпийская баллада». Василь Быков получил много наград из этой страны, одна из последних — почетный орден Святого Валентина. Помимо официального признания, Быковых связывало с этой страной много личных связей, настоящая дружба.
* * *
ВБ: Это подруга позвонила, она всегда звонит и зовет нас в Италию. Кроме нее у нас там живет еще один хороший друг, Джорджио Бергамини, он часто нас навещал в Минске; с ним мы себя чувствуем, словно он — близкий родственник. Уже много лет Джорджио с семьей приглашает нас к себе на Адриатику. Но у Ирины долго не было заграничных документов, знаете, получить их в Беларуси — всегда проблема.
ЗГ: Да, я слышала.
ВБ: Сам я уже много раз бывал в Италии и не хотел ехать без нее. Позже, когда судьба привела нас в Финляндию, наши друзья немного обиделись, что мы туда поехали вместо Италии, до сих пор нас упрекают. После нашего переезда в Германию упрекают еще сильнее. Я вот только что отклонил еще одно приглашение приехать в Италию. Понимаете, у меня огромная потребность в работе, а путешествия ей мешают. Одна надежда, что друзья поймут меня и простят.
ЗГ: Я, конечно, вас понимаю. Но лично мне Италия настолько нравится… По-моему, это был бы для вас просто райский угол.
ВБ: Может быть… Кто знает. Да и на самом деле, мы с Ириной от всего сердца благодарны за крышу над головой и великодушное гостеприимство, которым мы везде и всюду окружены, но правда в том, что единственное место, которое нам нужно, — это дом.
ЗГ: Когда вы планируете вернуться в Беларусь?
ВБ: Надеемся в этом году, хотя не похоже, чтоб нас там слишком ждали.
ЗГ: Действительно, могут еще какой-нибудь сюрприз приготовить… Василь Владимирович, а можно вернуться к последним дням войны, мы ведь там остановились, не правда ли?
ВБ: Да, давайте продолжим… Война для меня кончилась, как я сказал, в Австрии, но две недели спустя нашу часть перевели в Болгарию. Год, с середины 1945-го до середины 1946-го, я провел в Софии. В то время это была братская нация, нас там принимали так, что чуть не душили в этих братских объятиях. Однако, когда много лет спустя я приехал в Болгарию по приглашению их писательского союза, мне рассказали такой анекдот: Дети прибежали к дедушке, старому, сморщенному крестьянину, работавшему на винограднике. Обступили его и радостно кричат: «Дедушка, дедушка, русские на Луну полетели!» Дед выпрямил свою старую, скрюченную спину, перекрестился и сказал: «Ну, слава Тебе, Господи!! Вы уверены, что они все улетели?»
ЗГ: Я знаю похожий анекдот: русский и болгарин оказались в пустыне, и из еды у них осталось одно только яблоко на двоих. Русский предлагает: «Давай его разделим по-братски», а болгарин отвечает: «Нет уж, давай лучше поровну!»
ВБ: Действительно, что лучше раскрывает суть вещей, чем анекдоты… Однако, возвращаясь к тому послевоенному году, нужно сказать, что, несмотря на огромную послевоенную разруху, царившую в этой стране, как и в любом соседнем европейском государстве, кормили нас там первоклассно. Несмотря на такую «сытую» жизнь (для меня, как и для многих, — впервые за десятилетия), мы все скучали по родным местам, нас тянуло домой.
ЗГ: Когда вы получили первую весточку из дома, когда наладилась связь?
ВБ: Мое первое письмо из дома пришло в 1944-м, когда моя часть была в Молдове. В это время готовилась операция «Багратион», другими словами, операция по освобождению Беларуси. Мой родимый район — Полотчина — находился еще под немцами в это время. Наша армия, прорываясь сквозь сопротивление немцев на территории Румынии, в то время помогала операции «Багратион» лишь опосредованно. В те дни я написал домой. Знаете, на войне ведь все непредсказуемо: я и не надеялся, что письмо мое дойдет. Однако каким-то чудом моя мама получила его спустя два месяца. А ведь официальная почта тогда не работала. Представьте, что за неделю до этого письма моя семья получила на меня официальную похоронку из той части, где я служил, ну, когда меня ранило в последний раз. Похоронное свидетельство официально сообщало, что я «пал смертью храбрых» под Кировоградом и похоронен в деревне Большая. Конечно, мои родные стали горько оплакивать меня. Особенно досталось матери: я думаю, что она так никогда и не оправилась от тех «новостей». Однако, получив мое письмо, они сверили его дату с датой похоронки и убедились в том, что я жив!
ЗГ: Представляю, сколько счастья было в вашей хате в этот момент!.. Вы сказали, что вас, как и всех остальных, очень тянуло домой тогда, в 1946-м, два года спустя после той неразберихи с похоронкой.
ВБ: Ну да, большинство из нас чувствовали такое же нетерпение, как сокамерники перед амнистией. Мою часть расформировали, но меня ни черта не отпустили, а послали служить в другую, около Одессы, на маленькую станцию под названием «Кудыма». Эту часть тоже собирались распустить, вот я и надеялся месяца через два-три демобилизоваться. А вместо этого меня отправили в Николаев, где я и прослужил до мая 1947-го, когда, наконец, пришел долгожданный приказ о демобилизации. Я поспешил домой.
ЗГ: Вы не видели свою семью семь лет…
ВБ: Да, примерно столько… Я побыл немного дома, но быт там был невыносимо сложный. У нас, да и у всех соседей, в доме не было, как говорится, ни капли молока, ни краюшки хлеба. Мы принадлежали колхозу, а ведь дело известное, как людям жилось при колхозах, — да тут еще и время послевоенное. Сестра работала бухгалтером в Западной Беларуси, а шестнадцатилетний брат после школы вкалывал с родителями в колхозе. Я очень хотел учиться. Художественное училище в Витебске прекратило существование, да и сам Витебск был полностью в руинах. (Василь Быков показал фотографию.) Вот поглядите, пожалуйста: это старый Витебск, таким я его помню до сих пор. Сейчас он другой. Центр этого древнего города, например, абсолютно новый и ужасный… Ну, я и двинулся в Минск, а там оказалось, что бывший директор Витебского художественного училища Ахремчик стал председателем Союза художников Беларуси. Минск 1947-го тоже пребывал в руинах, даже вокзала не существовало — поезда по прибытии в город останавливались где придется. С трудом я нашел полуразрушенное здание, где находился Союз художников. Ахремчик сказал мне прямо: правительство подумывало о восстановлении Витебского художественного училища, но в реальности на это не стоит даже и надеяться. Еще он сказал, что в Минске с жильем устроиться невозможно, и посоветовал мне попытать счастья в Западной Беларуси; особенно он хвалил Гродно: дескать, жить там легче, чем в Восточной Беларуси. Он также сказал, что в Гродно собралась вроде бы неплохая компания художников, которая, это он подчеркнул, большей частью состояла из таких же, как и я, недавних фронтовиков. Среди прочих Ахремчик назвал фамилии художников, которых я знал: Морозов[412], Пушков[413], Савицкий[414].