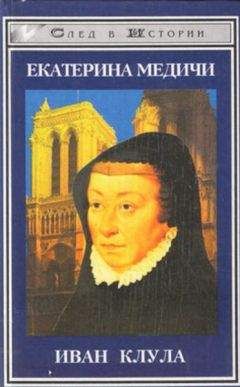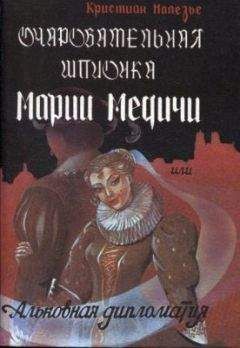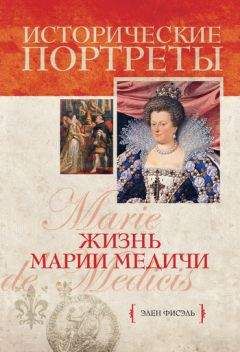Сергей Романовский - Нетерпение мысли, или Исторический портрет радикальной русской интеллигенции
По прошествии 10 лет реформ теперь мы за счастье почитаем, чтобы еще через 10 лет мы жили так же, как и до их начала. Опять же, чтобы все было как при советской власти, только… без коммунистов.
Такие мы есть – советские интеллигенты.
Власть сейчас в России наша – интеллигентская. На капитанском мостике все больше академики, доктора да кандидаты наук. Да и оппозиция не хуже – тоже наш брат интеллигент, только зачатый от других идеалов.
А как попасть во власть, если уж совсем без нее невмоготу, – демонстрировать умение работать честно, с инициативой от власти только отдалит – там белых ворон не терпят; нужно другое – придется научиться убедительно ругать власть, ругать напористо, ничего не боясь и ссылаясь на «убойные факты», – вот тогда ты свой, тогда, глядишь, и ковровая дорожка во властном коридоре станет своей. Прав В. К. Кантор, «ругать власть стало способом проникнуть в ее состав» [687]. Эта циничная откровенность, конечно, страшна, но именно с таким нравственным багажом мы стучимся в XXI век.
А век уходящий начинался, как мы знаем, так. Многие интеллектуалы почти сразу после прихода большевиков к власти признали, что их власть (на тот момент) была единственной, которая могла оградить Россию от развала, ибо это неизбежно случилось бы, продлись «интеллигентская эйфория» от «февральского безумия» чуть долее. Об этом, не скрывая своих антипатий к большевизму, писали и Л. П. Карсавин, и В. И. Вернадский, и В. Н. Ипатьев, да и многие другие трезвомыслящие русские интеллектуалы.
Почему так? Причина, думается, крайне проста: когда гром грянул, т.е. когда скинули царя и к власти пришли интеллигенты Временного правительства, люди почти на подсознательном уровне и вдруг поняли, что Россия, как целостное крепкое государство, может существовать только в замороженном состоянии. Как только политический климат начинает теплеть, государственность российская мгновенно тает и растекается. Не будем забывать, что еще до Брестского мира (март 1918 г.) от России поспешила отделиться Украина.
Вот почему стенания русской, а затем и советской интеллигенции по свободе, равенству и братству, одним словом по демократии, во все времена означало одно – эта свобода, которой так надрывно добивались, оборачивалась, в первую очередь, против российской государственности. Так случилось и в 1917 г., когда рухнула и частично развалилась Российская империя, и в 1991, когда окончательно распался СССР, а Российская федерация оказалась в границах, соответствующих былой России приблизительно XVI века.
20 декабря 1919 г., когда большевизм еще и в силу не вошел, Г.А. Князев записал в своем дневнике пророческие слова: что может заменить большевизм? Убежден, что после «падения большевизма мы переживем самую черную анархию» [688].
Еще один узелок. XX век оказался для значительной части человечества веком господства идеи. Россия и в этом деле оказалась впереди всех: до 90-х годов она жила под указующим перстом «со-циалистического выбора». Его идеология – марксизм, метод внедрения в жизнь – ленинизм. Германия в начале 30-х годов избрала ближайшего родственника нашей идеи – национал-социализм, который растворил национальную идею в социалистической кислоте, что дало предельно ядовитую смесь – фашизм. Так что не будем обманываться: фашизм родился благодаря победе в России пролетарской революции. «Вы, – писал академик И. П. Павлов в Совнарком 21 декабря 1934 г., – сеете по культурному миру не революции, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было… Под Вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мир, исключая могучий англосаксонский отдел» [689]. Думаю, что понимали это многие, ибо вопрос-то в целом прозрачен. Однако сказать вслух решился один И. П. Павлов.
И еще один узелок, от которого нам никуда не деться, касается «особого пути» России. Вопрос этот, как мы знаем, возник на заре раннего славянофильства, однако по прошествии почти 200 лет его аргументация нисколько не изменилась; сегодня, как когда-то, она опирается лишь на физиологию человека и его быт. Вот как, к примеру, обосновывает свою позицию современный западник: «Лично я, – пишет наш известный экономист Н. П. Шмелев, – не верю ни в какую таинственную, мистическую специфику России и ее народа, ни в какую ее исключительную, “особую судьбу”: пусть мы и не самые удачливые в мире, но по природе своей мы такие же, как и все, – не глупее, но и не умнее, не хуже, но и не лучше других…» [690].
Пора бы уже, кажется, понять, что «особая судьба» России – не метафора поэта и не скудоумие рафинированного славянофила. Она – историческая данность, опирающаяся и на евразийскую природу российской государственности, когда азиатская география, азиатская история и азиатские традиции входят в явное противоречие с европейской культурой, техникой и наукой.
Как есть теория систем (но и теория больших систем), так есть и экономические законы, писанные (условно говоря) для Лихтенштейна и для России. Как сумма сотен тысяч «лихтенштейнов» не даст ничего похожего на одну Россию, так и технология экономического реформирования маленького Лихтенштейна абсолютно не подходит для громадной России. Так что Россия «особая» не потому, что ее население «глупее» или «умнее», чем в крошечном Лихтенштейне, а потому лишь, что у нее особые начальные условия для экономических преобразований: громадное количество заведомо не-равноправных субъектов федерации (республики и регионы делятся, кстати, на тех, кто «подает» [доноры], и тех, кому подают [все прочие]), крайне неразвитая инфраструктура страны плюс экономическая самостоятельность (на бумаге) и полная экономическая зависимость (на деле) субъектов от центра, что приводит не просто к неэффективным моделям управления, но к тому, что для Дальнего Востока, к примеру, Токио, Пекин и Сеул оказываются ближе, чем Москва, не только географически, но экономически и даже политически. Сказывается для России в целом и громадный исторический разрыв между культурой народа и культурой общества.
Так что у России все же свой путь экономического и политического возрождения, его надо искать и идти по нему, никому не подражая, ни кого не копируя, а запасаясь лишь верблюжьим терпением [691].
И такой узелок завязать придется, ибо русская интеллигенция без дум о будущности России никак не может. Еще в 1897 г. в статье «Небо и земля» философ В. С. Соловьев написал, что в России будущность принадлежит не «народу», не «интеллигенции», а только «истине». Как это понимать? Если истину оторвать от человека, то кому же она принадлежать будет? Только Богу! Именно это утверждал философ. Но, как показала реальная, а не гипотетическая история России, жизнь в ней шла своими, причем отнюдь не Божескими тропами. Весь XX век история устилала свой путь трупами, и человек лил слезы не от умиления, а от страданий…
Кстати, еще в одном, причем ключевом для России, вопросе ошибся наш религиозный философ. В 1888 г. в одной из лекций В. С. Соловьев говорил, что в России национального вопроса быть не может. «Тысячелетнею работою создавалась Россия как единая независимая и великая держава. Это есть дело сделанное, никакому вопросу не подлежащее» [692]. Нет. И с этим утверждением жизнь не согласилась. Именно национальный вопрос, как никакой другой, как только Россия попыталась уйти от своего тоталитарного прошлого, встал шлагбаумом на ее пути, и что будут делать нынешние политики с «национальным вопросом», абсолютно неясно.
Профессор А. С. Панарин, размышляя о будущности России на рубеже столетий, пишет: «Как России избежать трагической дилеммы: либо националистическая одержимость “памятью”, грозящая этническими и религиозными войнами, либо непомерное идеологическое “воодушевление”, связанное с проектом о “светлом будущем”, который объединит народы под эгидой нового авторитаризма» [693].
Так что интеллигенция конца нынешнего столетия на будущность России смотрит, пожалуй, более трезво, чем ее историческая предшественница. Но не потому, что она стала более мудрой, просто современная нам интеллигенция более повидала того, на что оказалась способной Россия да и населяющие ее народы. Тут дилемма наподобие «яйца и курицы»: история ли у России такая, потому что народ такой, или, напротив, народ таков из-за таковской российской истории. Мы этой «проблемы» касаться не будем.
Приведем лишь мнение о народе российском академика В. И. Вернадского. 13 сентября 1920 г. он записывает в дневнике: «Я не могу себе представить и не могу примириться с падением России… (Власть большевистскую, как видим, ученый не признал. – С.Р.). Но отвратительные черты ленивого, невежественного животного, каким является русский народ – русская интеллигенция не менее его рабья, хищническая и продажная, то историческое “вар-варство”, которое так ярко сказывается кругом, заставляет иногда отчаиваться о будущем России и русского народа. Нет честности, нет привычки к труду, нет широких умственных интересов, нет характера и энергии, нет любви и свободы. Русское “освободительное” движение было по существу рабье движение <…> Сейчас по отношению к своему народу чувствуется не ненависть, а презрение. Хочется искать других точек опоры. Для меня исчезает основа демократии <…> Уж лучше царство образованной кучки над полуголодным рабочим скотом, какой была жизнь русского народа раньше. Стоит ли тратить какое-нибудь время для того, чтобы такому народу жилось лучше?» [694].