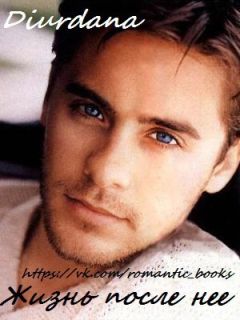Антон Нестеров - Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века
Однако сейчас нас интересуют не столько космологически – магические идеи Бруно, сколько его трактат «О героическом энтузиазме», изданный в 1585 г. в Лондоне и посвященный Сидни. Бруно проводит различие между двумя видами любви: «amore», направленной лишь на красоту избранного предмета страсти, и «furiori» – одержимость, жадность постижения и обладания, которая может удовлетвориться лишь мирозданием в целом. Этот второй род любви является редким даром, отпущенным философам и поэтам, и позволяет им воспринимать единство несхожего, прослеживая аналогии между далекими друг от друга явлениями. Лишь этот вид любви-одержимости способен связать мир сетью соответствий, вернуть ему гармонию целого.[762]
Стремительное расширение физических границ мира, происшедшее в ту эпоху благодаря географическим и астрономическим открытиям, заставляло людей XVI–XVII вв. чувствовать себя беззащитными перед экспансией «внешнего». Мир оказался слишком велик, несоразмерен человеку, который представлялся в нем лишь песчинкой. «Время вывихнулось из пазов», распахнув дверь в невыносимую бесконечность.
Поэтика, отталкивающаяся от идей Бруно или созвучная им, позволяла привести этот новый мир к соразмерности, вновь уравновесить микрокосм и макрокосм. В Испании и Италии расцветает школа «концептистов», давшая Бальтасара Грасиана и Эммануэля Тессаро. В Англии сходные задачи пытались решить Донн и другие поэты-метафизики – при всем том, что их поэтическая практика существенно отличалась от континентальной.[763]
Может быть, одно из самых метких определений поэтики, исповедуемой Бальтасаром Грасианом, дал Борхес
Инверсии, меандры и эмблемы,
Труд, филигранный и никчемный разом, —
Вот что его иезуитский разум
Ценил в стихах – подобье стратагемы.
Что до донновской поэзии, то она совершенно иного рода. Т. С. Элиот заметил, что для Донна «мысль была переживанием».[764] Драматизм его поэзии и прозы вырастает из глубочайшего ощущения конфликта между беспредельностью духа, свободой мысли – и ограниченностью телесного существования. «Наши мысли, они рождены великанами: они простерлись с Востока до Запада, от земли до неба, они не только вмещают в себя Океан и все земли, они охватывают Солнце и Небесную твердь; нет ничего, что не вместила бы моя мысль, нет ничего, что не могла бы она в себя вобрать. Неизъяснимая тайна: я, их создатель, томлюсь в плену, я прикован к одру болезни, тогда как любое из моих созданий, из мыслей моих, пребывает рядом с Солнцем, воспаряет превыше Солнца, обгоняет Светило и пересекает путь Солнечный…» – напишет он в одной из «Медитаций».[765] Донновская эквилибристика мысли, головокружительность его сравнений – вовсе не от стремления «насильственно сопрячь вместе самые разнородные идеи», как то утверждал д-р Самюэль Джонсон,[766] а от жажды полноты бытия.
Мы уже упоминали сравнение «истинной возлюбленной» с первоцветом и пятерицей:
На холм, что первоцветами порос
Так густо, что щедрейшею из рос
Излейся Небо – каждый первоцвет
Был собственною каплею одет, —
И, подражая манне звезд в числе,
Те Млечный Путь творили на земле, —
Я поднимался, чая отыскать,
Любовь, что смог бы истинной назвать:
Не женщиною быть должна она,
Но большим, или меньшим, чем жена.
<…>
Мой Первоцвет, пышнее расцветай
И пятерицу в лепестки вплетай.
Жена, что знаменована тобой,
Сей тайный символ воплотит собой.
Венец числа – десятка, если дать
Любой из жен по половине – пять, —
Она владела б половиной нас…
Первоцвет, примула – «primrose» – имеет в английском еще ряд имен: ботаническое «star-primula» (звездная примула) и разговорное «true-love» (истинная любовь); в эмблематике и на водных знаках XVII в. можно найти настойчиво повторяющийся сюжет: примула, цветущая на вершине холма – обычно этот образ истолковывался как символ Эдема, Райского сада. На картах звездного неба той эпохи Млечный Путь изображался в виде окружности, «звездного пояса», охватывающего соответствующую сферу.[767] Тем самым «цветочный окоем», вспоенный небесной влагой и вскормленный землей, прочитывается как «истинное чувство», сочетающее в себе земную, плотскую, и небесную, духовную природу. Выстраиваемый Донном образ насыщается подтекстами и значениями[768] – чтобы к концу стихотворения воспарить в область чистого умозрения и нумерологического символизма, восходящего к Агриппе Неттесгеймскому. Знаменитый тайнознатец пишет:
«Пятерица наделена немалой силой, ибо она составлена из первого четного (т. е. – двойки) числа и первого нечетного (т. е. – тройки), кои есть начала женское и мужское. Математики называют их отцом и матерью. Пятерица, стало быть, обладает немалым совершенством, ибо образована сложением двух начал, а кроме того, она есть точная половина десятерицы, этого числа всего мироздания. Ибо если отнимать по числу с обоих концов десятерицы: девятку с одной стороны и единицу с другой, восьмерицу с одной стороны и двойку с другой, семерицу и тройку, шестерину и четверку, то их сумма всякий раз образует десятерицу, а пятерица есть ее совершеннейшая половина. Вот почему пифагорейцы именуют ее числом брачных уз и числом правосудия… Ее называют также числом счастья и благодати, и это печать Святого Духа, связь, связующая все сущее и число креста; она исчисляет язвы Христа, чьи отметины Он соблаговолил сохранить на Своем славном теле. Число сие совершеннее четверицы в той же мере, в какой одушевленное тело превосходит неодушевленное».[769]
Донн вполне точно следует Агриппе, и ограничься он тем – стихотворение предстало бы «чистой» аллегорией, образцом ученой поэзии. Однако поэт вновь возвращается к теме чувственности и с горечью говорит о невозможности обрести возлюбленную, воистину совершенную, ибо приходится выбирать между «скудной» (в оригинале – scarce) плотской любовью и любовью к абстракции в духе петраркизма – и та, и другая неполны и несовершенны.
Вкус к нумерологическим контекстам вообще присущ Донну. Так, в «Элегии на смерть леди Маркхэм», открывающейся «классическим» донновским сравнением, не раз использованном им в проповедях и медитациях:
Смерть – Океан, а человек – земля,
Чьи низменности Бог предназначает для
Вторжения сих вод, столь окруживших нас,
Что, хоть Господь воздвиг предел им, каждый раз
Они крушат наш брег…
– в строках 7 и 8 он говорит о слезах скорби (tears of passion), захлестывающих близких покойной, что «они покрывают нашу твердь», – «above our firmament» – точно цитируя 7-й стих 1-й главы «Книги Бытия» в авторизованной версии короля Иакова: «And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters were above the firmament» – «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью».[770]
Порой «слишком искусственная вычисленность» образов Донна объясняется его стремлением сковать хаос чувств уздой разума, заговорить боль, заглушить ее доводами рассудка.
В одном из самых сильных стихотворений – «Dissolution» – «Распад» (в переводе Г. Кружкова – «Возвращение») рассуждения в духе натурфилософии о перетекании первостихий друг в друга: «смерть земли – воды рожденье, смерть воды – воздуха рожденье, воздуха – огня рожденье и наоборот»,[771] восходящие еще к Гераклиту (и знакомые современникам Донна прежде всего по Лукрецию и Марку Аврелию) призваны смягчить скорбь о смерти возлюбленной – «схоластика» становится «игрой в прятки с горем»:[772]
Она мертва; а так как, умирая
Все возвращается к первооснове,
А мы основой друг для друга были
И друг из друга состояли,
То атомы ее души и крови
Теперь в меня вошли, как часть родная,
Моей душою стали, кровью стали
И грозной тяжестью отяжелили.
И все, что мною изначально было
И что любовь едва не истощила:
Тоску и слезы, пыл и горечь страсти —
Все эти составные части
Она своею смертью возместила.
И эта смерть, умножив мой запас,
Меня и тратит во сто крат щедрее,
И потому все ближе час,
Когда моя душа из плена плоти
Освободясь, умчится вслед за ней:
Хоть выстрел позже, но заряд мощней
И ядра поравняются в полете.
Возможно, эта способность выговорить боль – и тем самым ее преодолеть – спасла Донна от того, чтобы наложить на себя руки. В самый мрачный период своей жизни Донн создает трактат «Биатанатос» (1608) – философское и религиозное оправдание самоубийства. «Лишение себя жизни не принадлежит к числу грехов естественных, а потому его можно осмыслить иначе», – заявляет он в подзаголовке трактата. Мысленно «проиграв» идею во всех ее аспектах, Донн преодолевает искус и находит в себе силы отойти от опасной черты: внутренне он уже покончил с собой. Об этом довольно красноречиво свидетельствует тот факт, что он завещал рукопись «Биатанатоса» Роберту Карру прося его не придавать трактат «гласности либо огню»,[773] тем самым гарантируя сохранность необычного «литературного надгробия». Своеобразную интерпретацию этого сюжета можно найти у Борхеса.[774]