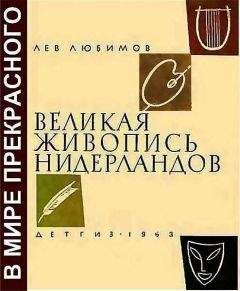Людмила Черная - Антропологический код древнерусской культуры
Как бы то ни было, «Хронограф» 1617 г. наряду с другими произведениями первой трети XVII в. доказывает появление признаков культуры Нового времени, таких как рационализм, открытость, динамичность, следование принципу новизны и др. При этом они весьма органично соединяются со сверхчувственным христианским мироощущением, оставляя невидимому пространству и вечному времени право существовать наряду и параллельно с реальными «мимоидущим» временем и видимым миром. В целом все авторы публицистических произведений первой трети XVII в. самим жанром подталкивались к открытию рационализма как исходной позиции людей своего времени. Поэтому Смутное время и первые годы после него мы считаем начальным этапом переходного процесса. На 1630—1650-е гг. падает второй этап переходного процесса в культуре, когда еще не было конфронтации между старым и новым восприятием человека и мира, они уживались вполне мирно и сосуществовали как чувственный и сверхчувственный подходы. Затем началось размежевание сторонников этих позиций, время полемики, споров, открытой и жесткой борьбы, обострившееся после церковных реформ патриарха Никона и начала церковного раскола. Петровское время – последний этап переходного процесса, в котором ведущую роль в утверждении нового берет на себя государство, и особенно Петр Великий, что накладывает особый отпечаток насильственности и давления на довольно свободно развивавшийся до этого культурный процесс. В целом же начавшийся поворот от человека «Души» к человеку «Разума» шел постоянно и неудержимо на протяжении всего XVII – начала XVIII вв.
Главное то, что в переходный период разум, а не душа начинает определять человека как такового. Ранее, в эпоху расцвета культуры «Души», разум оценивался в основном как «разум спасения» («Слово о лживых учителях» и мн. др.). Человек должен стремиться быть благоразумным, поскольку разум (как и красота, и нрав, и честь, и чин и многое другое) был накрепко соединен с «благом», а благоразумный равнялся богоразумному, о чем свидетельствуют многочисленные примеры использования их как синонимов в богослужебной и церковно-учительной литературе. До принятия христианства Русь испытывала «глад богоразумья».[595] «Свет богоразумия» получали при крещении: «…изять люди своя от тмы невидения и приведе я к свету богоразумья», «И тии невернии уведевше наше житие… приидуть в богоразумие, и обратятся и крестятся…», «Светом богоразумия просвети».[596] В древнерусском толковании благоразумной могла быть только душа человека, но в XVII в. появляется и «благоразумный разум», уже как бы автономный: «…за его благоразумный разум в государевых делех против государевых недругов».[597]
При этом, конечно же, до XVII в. существовали и другие оценки разума. В частности, в народных представлениях существовал разум-хитрость, а в еретических сочинениях встречается и «разум-рассуждение». Так, монах Акиндин в «Послании тверскому князю» писал: «всяк человек приим от Бога разум рассуждати».[598] Степенью зрелости разума часто определяли возраст человека: «младоумен» – молод, «мужествен ум» – зрелый возраст и т. д. Разум всегда высоко оценивался в древнерусской культуре, он был частью души и служил задаче спасения для жизни вечной.
В переходный период постепенно идет выдвижение разума на ведущие позиции в жизни и отдельного человека, и общества в целом. Разум был поставлен над душой, объявлен царем всему – и душе и телу. Его помещали теперь не в разумной душе, не во «ушию сердечном», а «между лбом и затылком в мождяных хлевинах»[599] – мозговых извилинах. Слегка злоупотребив тавтологией, можно сказать, что от разумной души первенство перешло к разумному разуму. Свойства разума начинают описываться, изучаться, восхваляться. Разум становится системообразующей единицей новой концепции человека. Прежде всего русские авторы характеризуют разум как естественное свойство человека. При этом они ссылаются на метафизику Аристотеля: «Преизрядное видится быти древнее око с верховнаго Аристотеля речение, еже пишет во своих метафизиках: си есть вси человеци естественно ведати желают. Желание сие о сведении всех вещей, аще и многообразно бывает, обаче философи в четыре определения вопросителная сообщают, сиречь: аще есть, что есть, каково есть и чесо ради есть».[600] Среди естественных свойств разума называется жажда познания – «ведения»: «И для того крайнейший философ Аристотель написал, что все человецы естественно желают ведати, се есть от природы своей любят ведати и познати всех вещей…».[601] Подобные рассуждения, как и ссылки на физику Аристотеля, были весьма распространены в России XVII в. Даже Алексей Михайлович знал и цитировал изречения Аристотеля: «А Аристотель пишет ко всем государем, велит выбирать такова человека, который бы государя своего к людям примерял, а не озлоблял!».[602] Десять категорий Аристотеля упоминаются во многих произведениях, в частности в «Риторике» Иоанникия Голятовского, в «Обеде душевном» Симеона Полоцкого и др. С учением Аристотеля был знаком и Сильвестр Медведев, что явствует из его переписки: в 1672 г. он просил отца Евфимия взять у Тимофея Дементьевича Литвинова «книги мои на полском языце Аристотелеви в десть» и подчеркивал, что эти книги ему очень «надобны».[603] В другом письме, адресованном Г. Г. Ромодановскому, Медведев решил блеснуть своими познаниями и поместил довольно длинное рассуждение о «четырех винах философских», в особенности о «вине образующей, иже дает естество всякой вещи».[604] В «Известии истинном… о новоправлении книжном и о прочем» Медведев ссылался на Аристотеля, говоря о пагубности лжи в государстве.[605] Наиболее часты ссылки на Аристотелевскую оценку пяти чувств, управляемых разумом, и в особенности на зрение. Одни авторы, как Николай Спафарий, говорят о «любви человеческой к чювству, и напаче к зрению»,[606] другие, как Карион Истомин, от имени зрения преподносят вирши на бракосочетание Петра Алексеевича в 1687 году,[607] третьи, как математик Леонтий Магницкий, подробно анализируют возможности «зрительной силы ума».[608] Последний вообще много пишет о зрении, позволяющем человеку «аще и далече сущее досязати». Зрение стоит на первом месте среди пяти чувств, но и остальные, по выражению Магницкого, «такожде… подобныя силы и действа имут, о них же по естествознанию есть известно».[609]
Естественный разум сам по себе оценивается как наивысшая ценность человека, поскольку он позволяет чувственный опыт, полученный через пять чувств, превратить в некое знание, зеркально отражающее действительность. Но он недостаточен в силу своей «необработанности». Без обучения, образования, «внешней мудрости» естественный разум не сможет сформировать адекватное знание, отражающее истинную сущность вещей, явлений, мира в целом. В связи с этой посылкой разрушается средневековый постулат о вреде «внешней мудрости». Аргументация в пользу светского знания начиналась с утверждения, что «мнози от святых и богословец умели не токмо грамматику и философию и мусикию, но и о небесном движении и о звездном обношении, и землемерствие, и всю извыкли внешнюю премудрость, а никогда же повредишася, но и паче просветишася».[610] В ход пускалась оговорка, что разум, обогащенный знанием, будет «лучше постигать Бога». Об этом писал, например, Карион Истомин: «умная душа почиет во Христе, егда поучится в мудрости, наук знанством просветится», а посему светским наукам должны обучаться только «имущие знания во Святом Писании крепка и утверждении в разумениях»; при соблюдении этого условия наука весьма приветствовалась поэтом: «Ибо человек сам не осмотриться // Аще в науках ум не изострится».[611] Симеон Полоцкий защищал свободные науки неоднократно и разнообразно. Так, в проповеди на Рождество Христово, упомянув о словах апостола Павла «премудрость людская – буйство есть у Бога», он уточняет, что «этими словами не осуждаются свободныя художества: грамматика, риторика, философия, они очень полезны в гражданском быту и споспешествуют духовной премудрости; здесь осуждается непокорство Божьим словам естественного разума, изощренного хитростью этих художеств, если кто, опираясь на естественныя причины, не хочет повиноваться Божьему слову – вот мудрость мира сего! – вот буйство пред Богом!».[612] О том же чуть позднее писал иеродиакон Дамаскин: «Мы хвалим свободные науки, но чрез такового человека действующие, иже сам со страхом слушает и делает веления Божественные, а иже в бесстрашии пребывает и сластех, таковаго не токмо не пользуют науки схоластические, но и вреждают весьма, таковой бо схоластик по преизлиху бывает пакостник церковный и ересеизобретатель, нежели неученый».[613] В еще более категоричной форме ту же мысль высказывал Стефан Яворский в книге «Знамения пришествия Антихристова и кончины века сего»: «…аще разум есть непокорный церкви святой учению и догматом православным, несть се разум, но буйство и юродство вселютейшее!».[614] И, конечно же, крайнюю позицию в этом вопросе занимали вожди старообрядчества. В произведениях протопопа Аввакума неоднократно встречается полное отрицание возможности внешнего знания: «Альманашники и звездочетцы и вси зодейщики познали Бога внешнюю хитростию, и не яко Бога почтоша и прославиша, но осуетишася своими умышленьми, уподоблятися Богу своею мудростию начинающе, якоже… Платон, Аристотель и Диоген, Иппократ и Галин: вси сии мудри быша и в ад угодиша…».[615] Для Аввакума и его сторонников премудрость сродни смиренномудрию и включает в себя любовь, милость, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание и т. п. духовный разум, а все остальное – это только ложь суетного мира.