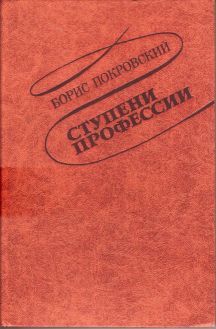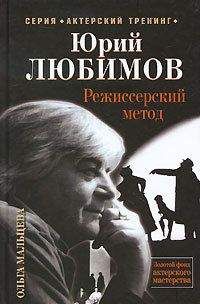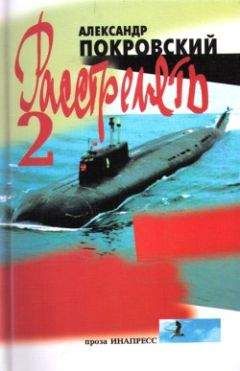Борис Покровский - Ступени профессии
На свидание к Кармен, соря деньгами, приходит молодой офицер по имени Цунига. «Хозяин» Кармен Гарсия или Лилас Пастья, во всяком случае очень шустрый и рыжий тип, устраивает ему свидание с вялой и безразличной Кармен. Потом приходит Хозе, и Кармен оживляется, даже пробует чуть-чуть пританцовывать. Куда скромнее и еще более неумело, чем это делает самая тяжелая примадонна провинциального оперного театра.
Когда Хозе хочет уйти, Кармен озадачена, удивлена и расстроена. Но привычной в этой ситуации активности не проявляет. Хозе на ее глазах душит появившегося. Цунигу. Вскоре он за кулисами убивает и рыжего «хозяина» Кармен, который собирался помешать его любви с нею. Героиня безразлична. Когда она поет «сцену гадания», то поет скорее о скорбной жизни, о фатальном подчинении судьбе, чем сталкивается с неумолимостью страшного рока.
Иное отношение при одной и той же музыке рождает новый образ. Лучше? Нет. Но не это меня сейчас интересует. Ко всей новой логике событий, взаимоотношений и чувств подобрана музыка из партитуры «Кармен». Музыка часто меняет свой характер, что зависит и от измененной (на 15 человек) инструментовки, новой гармонической окраски материала. И главное — вот что для меня было важно еще раз проверить! — от необычных сопоставлений известной музыки со сценическим действием новой пьесы.
А каковы были актеры? Превосходны! Прежде всего они пели действие, а не показывали голоса. Интимное звучание открывало душу персонажа перед всеми, кто смотря слушал и слушая смотрел спектакль. Скромность и известная камерность обстановки собирала мысли и эмоции зрительного зала. Декораций не было совсем, не было и световых эффектов. Костюмы невзрачные, небрежные, нарочито бедные. Дно человеческой жизни. (В самом деле, в этих костюмах можно было бы играть «На дне» Горького.)
Камерность спектакля, его душевное, доверительное исполнение выявляли чудесные нюансы музыки Бизе, хотя уничтожением драматургической конструкции произведения была разрушена его опера.
Вот наглядный урок. Это музыкальная драматургия, то есть опера, а вот это — только музыка, строительный материал для драматурга. Драматургия оперы уничтожена и из ее материала построено новое здание. Может быть, хорошее здание, но другое. Режиссер стал драматургом, он взял звуки и слова из произведений о Кармен и создал свою историю о ней. Да и сам образ ее сильно трансформировал. Сделал умно, интересно, талантливо, поэтому и возможно принять его спектакль.
Но сколько я знаю попыток малоспособных людей обновлять оперу, переделывать ее! Попыток «помочь» автору вмешательством в его владения! Я с презрением смотрю на буквоедов, которые непрошенно встали на страже каждой буквы, не только партитуры, но и когда-то кому-то (кто это слышал?) сказанных композитором фраз. Они, эти буквоеды, приносят опере вред, отгораживая ее по невежеству от театра. Непреложным законом я считаю познание духа драматургии и в пределах ее внутренних законов признаю свободное «музицирование действием».
Работа Брука — это создание концепции заново с применением материалов Бизе и Мериме. Не было бы последних, не было бы и Кармен Брука. Но нельзя считать этот спектакль постановкой оперы Бизе. Брук так и не считает. Он назвал спектакль по своему — «Трагедия Кармен», с указанием авторов материала и адаптации на равных правах.
Сочинять спектакль из хорошо проверенного первоклассного материала — это одно, а ставить оперу — это совсем-совсем другое дело. Прекрасный урок я извлек для себя в этот вечер!
«Где похоронен Шаляпин?» — спросили артисты нашего театра у парижан. Те пожали плечами и обещали узнать. («Ох, уж эти русские, дался им Шаляпин!»). Декабрь. Дождь. Кладбище Батиньоль. Много лет назад мы с женой посетили его в первый раз. Теперь я снова стою у могилы того, с кого началось в нашем искусстве самое для нас дорогое и необходимое, стою в окружении артистов, силы которых по возможности направлены на утверждение принципов его искусства.
Так стояли мы у могильных плит Игоря Стравинского и Сергея Дягилева на кладбище в Венеции. Тот же дождь со снегом, те же гнилые листья под ногами. Та же важная для нас церемония, очень важная! Здесь «не отдаешь дань», не «выполняешь долг», здесь подсознательно каждый исповедуется перед самим собою, укрепляется в вере, ощущает себя в строю необъятных перспектив и пространств профессии.
Очень важно хранить могилы предков! В Америке я был на могиле Сергея Рахманинова, привез оттуда засохший цветочек. Тривиально и сентиментально? Знаю! Но что делать — для меня, для моего творческого духа или самоощущения что ли, это полезно и поучительно. Смотришь на себя со стороны, измеряешь масштаб, видишь свое место, знаешь, куда тянуться…
Поэтому перед отъездом после трудных гастролей во Франции я с артистами Камерного театра постоял у могилы Шаляпина для пользы дела, для ощущения своего места в перспективе развития искусства. Русская культура, русское искусство, Рахманинов, Шаляпин, Дягилев, Стравинский…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Люди наиболее невежественные обыкновенно обнаруживают наибольшую смелость и наибольшую готовность к писанию книг», — писал Спиноза. Будда же утверждал, что самое большое преступление — невежество. Так что пишущий книгу легко может оказаться преступником!
Преступник ли я? Вот в чем надо разобраться, или вот в чем надо оправдаться. Итак, я «на скамье подсудимых» и знаю, что «всякий врожденный порок усугубляется от попыток скрыть его под личиной добродетели», как полагал Эразм Роттердамский.
Легко оправдать книжку о профессии, где возможно принести пользу своими наблюдениями, но когда предполагаешь писать воспоминания — тут дело потруднее. Писать о себе нескромно, а публиковать свое мнение о других в некотором роде нахально. В самом деле, кто, кроме редакции, дает на это право?
Нельзя считать оправданием желание (а у кого его нет?) «пофигурять», прихвастнуть, прикинуться глубокомысленным. Нельзя прикрыться стремлением хоть чем-нибудь воздать благодарность людям, в которых был влюблен, которым был обязан. Нельзя, наконец, свалить на друзей — дескать, просили, настаивали: «Пиши, пиши, это интересно, полезно».
Но книга написана. От вступления к ней до заключения — «дистанция огромного размера». Здесь легко найти всякое: и запоздалое «открытие Америк», и полезные наблюдения, и огрехи, и… А может быть, кому-то что-то покажется любопытным? Как знать! В решении вопроса о нужности книги большую роль играет читатель. Автору остается либо горевать по поводу того, что не угодил потребности читателя, либо облегченно вздохнуть. Ну точь-в-точь как в театре, где интерес спектакля определяет зритель, а мы, только встретившись с ним, узнаем, попали «в точку» или «промазали».
С книжкой тоже легко «промазать» и логично после этого признать себя виноватым. Этим закончится суд, а наказание — презрительная гримаса читателя и равнодушие. Все! Этого вполне достаточно.
Итак, я признаю себя виновным в том, что писал почти исключительно о тех, кто ушел из жизни. Те, кто, слава богу, жив и кто мне не менее дорог своим талантом, влиянием и симпатиями, зачастую оставлены за бортом этой утлой лодочки воспоминаний по разного рода обстоятельствам. Жизнь изменчива, книга — стабильна, отношения людей друг к другу подвержены каждодневным, даже ежеминутным изменениям, а «что написано пером»…
Стабильность моей любви ко многим ныне живущим не поддается сомнениям. Более того, к ним я испытываю все большую нежность и привязанность. Но рамки книги надо определить, а где тот инструмент, который сможет рассортировать такие эфемерные явления, как душевное влечение, вера, творческая взаимозависимость в отношениях с коллегами?
Увы, существует вечный и бесспорный Рубикон: между жизнью и смертью. Я горько сожалею о том, что некоторые герои разных этапов моей жизни не прочтут строк, написанных о них, но… таковы условия воспоминаний. Можно ли вспоминать о тех, кто ныне жадно поглощает жизнь, и кого в свою очередь поглощает жизнь, кто еще активен в бурном потоке стремглав проносящегося бытия, тех, кто счастлив, что сегодня живет, действует, созидает?..
Естественно искать в книге режиссера раскрытия «тайн» его профессии, «секретов» постановки спектакля, работы с актером, ответов на вопросы, почему спектакль получается «такой», а не «сякой». Таких ответов я дать не мог. Когда я ставлю спектакль, он, как живой организм, приобретает автономность существования и становления, более того, он тянет меня за собою, как ребенок, рожденный мною, но скоро приобретший самостоятельность. Вот он уже тянет меня к будке с мороженым, а в известный час засыпает, хоть ты тресни!
Живой организм нарождающегося оперного спектакля состоит из дум и страстей музыкальной драматургии и сложных актерских личностей. Управляю ли я ими? Как будто да. Но почему-то чем дальше, тем чаще они приводят меня в чудный мир, которого я не представлял ранее. Я знаю, что актер и автор, идущие обнявшись по лесу предполагаемого представления, могут без меня быстро заблудиться. Их творческие связи порвутся, творческий процесс остановится.