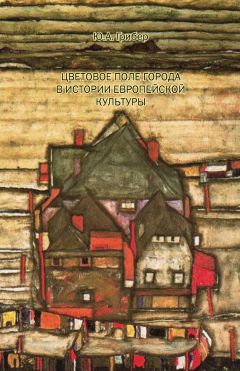Хосе Ортега-и-Гассет - Восстание масс (сборник)
В самом деле, две главные эпохи человеческой мысли — древний мир, включая Средневековье, и новое время, начиная с Возрождения — существовали благодаря двум уподоблениям, теням двух снов, как сказал бы Эсхил. Две эти ключевые метафоры в истории философии с поэтической точки зрения немногого стоят. Ими пренебрег бы и зауряднейший лирик.
Как античность объясняла себе тот потрясающий факт, что мир встает перед нами, облик за обликом разворачивая зрелище бесчисленных предметов? Уточню смысл вопроса. Взглянем на горную цепь Гуадаррамы. Перед нами гора высотою около двух тысяч метров, она гранитная, сиреневая с голубым. Но разум — вне пространства, он безразмерен, бесцветен, не обладает сопротивлением. Итак, объект и субъект мысли имеют противоположные свойства, взаимно исключают и друг друга и возможность всякой связи между собой, поскольку взаимное отрицание связью, конечно, не является. И все же, глядя на гору, субъект и объект восприятия — гора — образуют вполне положительную связь: они входят друг в друга, становясь одним. Как будто бы два полностью исключающих друг друга феномена тем не менее составляют одно. Перед нами противоречие, не так ли? Но в нем и заключается вопрос. Столкнувшись с противоречием, разум теряет равновесие. Решив, будто А есть Б, он тут же пытается исправить ошибку и утверждает, что А не есть Б; но, встав на эту новую позицию, он неизбежно возвращается к началу, и так без конца. Это вынужденное кружение расшатывает мысль, лишая ее покоя и безмятежности. Чтобы вырваться, мы начинаем сопротивляться и пытаемся превзойти противоречие, разрешить вопрос. Соломинка в воде прямая — и нет. Что же выбрать? «Быть иль не быть — вот в чем вопрос». «То be or not to be; that is the question».
А вопрос этот, если можно так выразиться, с двойным дном. То, что наш разум воспринимает явление, бесспорно, значит, что оно — в данном случае гора — «находится в нас». Но каким образом двухтысячеметровый пик может находиться в уме, который пространственных измерений не имеет? Первое «дно» вопроса — в том, чтобы попросту описать способ, каким вещи существуют в сознании. Второе — в том, чтобы объяснить, как, по каким причинам или при каких условиях это возможно. Обе стороны вопроса должны решаться по отдельности. Как раз здесь и древний мир, и новое время совершили ошибку: они спутали описание феномена с объяснением. Если нас спрашивают: «Почему Хуан такой странный?» — мы вправе сами спросить: «А кто такой Хуан?» Раньше, чем обсуждать причины происходящего с Испанией, стоило бы выяснить, что же с ней, собственно, происходит.
Для античности субъект, осознавая нечто, как бы входит с ним в связь — так два физических тела, столкнувшись, оставляют отметины друг на друге. Метафора печати, с ее слабым, оттиснутым на воске следом, вошла в сознание эллинов и век за веком задавала ориентир мышлению. Уже в «Теэтете» Платон упоминает ekmageion — вощеную дощечку, на которой писец процарапывает стилом очертания букв. Повторенный Аристотелем в трактате «О душе» (книга III, глава IV), этот образ пережил средние века, и в Париже и Оксфорде, Саламанке и Падуе преподаватели столетиями вбивали его в тысячи юношеских голов. Итак, субъект и объект ведут себя ровно так же, как два любых других физических тела. Оба существуют независимо друг от друга и тех отношений, в которые иногда вступают. Предмет зрения существует до того, как увиден, и продолжает существовать, будучи уже невидим; разум остается разумом, даже если ни о чем не мыслит и ничего не сознает. Столкнувшись с разумом, предмет оставляет на нем отпечаток. Сознание — это впечатление.
Для этой мыслительной традиции сознание (или связь между субъектом и объектом) — событие столь же реальное, как столкновение двух тел. Оттого она и названа реализмом. Оба элемента — и предмет, и разум — здесь одинаково реальны, как реально и воздействие одного на другой. Причем оба трактуются на первый взгляд совершенно беспристрастно. Но стоит присмотреться, как убеждаешься: допуская, что материальный предмет отпечатывается на другом, нематериальном, мы относимся к ним абсолютно одинаково, иначе говоря, воспринимаем сравнение с воском и печатью буквально. Субъект принижается до объекта. Его собственной природе не воздано должного.
Отсюда — все античное понимание мира. «Быть» — для античности значит находиться среди других предметов. А они существуют, опираясь друг на друга и складываясь в грандиозное здание вселенной. Личность всего лишь один из таких предметов, погруженных, по словам Данте, в «великое море бытия». Сознание — крошечное зеркало, где отражается только внешность вещей. Поэтому личности в античном космосе отведено не много места. Платон предпочитает говорить «мы», полагая, что единство — залог силы. Соответственно греки и римляне искали жизненную норму, нравственный закон в приспособлении личности к космосу. Так, подытоживая классическую традицию, стоики видели цель в том, чтобы «жить в согласии с Природой», поскольку Природа целостна и не знает страстей. Сознание личности, словно умоляющая рука слепца — а Стагирит считал душу чем-то вроде руки, — должно было ощупью отыскивать дороги мира, чтобы найти среди них свой скромный путь.
Ренессанс, который вопреки расхожему суду был не столько возвратом к классической древности, сколько ее преодолением, не мог миновать проблему сознания.
На самом деле образ вощеной дощечки плохо согласуется с фактом, который берется объяснить. После того как печать вмята в воск, перед нами равно очевидные печать и оставленный ею оттиск. Одно с другим можно сравнить. Иное — в случае в Гуадаррамой: нам доступен лишь ее отпечаток в сознании, но не она сама. Будь это галлюцинацией, качество изображения осталось бы тем же. Потому заявлять, будто предметы существуют вне и помимо нашего сознания, весьма рискованно. У нас нет о них других авторитетных свидетельств, кроме собственного разумения, когда мы их видим, воображаем, обдумываем. Скажем иначе: факт, что предметы каким-то образом находятся в нас, неоспорим. А вот существование их вне нас, напротив, всегда сомнительно и проблематично. Пытаться же объяснить бесспорное через предполагаемое, один факт через другой, по меньшей мере сомнительный, — задача абсурдная. Декарт изменил сам подход к вопросу. Единственно подлинное существование вещей — их существование в мысли. Вещи умерли как реальности, чтобы воскреснуть как cogitationes[210]. Но «акты мышления» — это всего лишь состояния субъекта, личности, того moi-meme qui ne suis qu'une chose qui pense. С этой точки зрения сознание относится к миру совершенно иначе, чем полагала античность. Место печати и вощеной дощечки заступает новая метафора — сосуда и содержимого. Вещи не входят в сознание извне, они содержатся в нем как идеи. Новое учение назвало себя идеализмом.
Строго говоря, сознание, разумение — понятия родовые. Есть множество разных форм сознания: зрение и слух, то есть восприятие, не то же, что воображение или чистая мысль. Античная философия выделяла прежде всего восприятие: посредством его предмет и в самом деле как бы приходит к субъекту со стороны и оставляет на нем оттиск. Новое время сосредоточилось, напротив, на воображении. Когда сознание работает в режиме воображения, не предметы приходят к нам по собственной воле — это мы вызываем их. Больше того, мы черпаем в этом бодрость духа, чтобы из самых мрачных нелепостей создавать юных кентавров, летящих, распустив на призрачном весеннем ветру гриву, вслед за неуловимыми белокожими нимфами. С помощью воображения мы творим и рушим предметы, делим и перетасовываем их. А потому содержание мысли не может войти в нас извне, мы должны извлечь его из собственных глубин. Сознание — это творчество.
Современная эпоха явно предпочитает способность воображения. Гете видит в «вечно беспокойной, вечно юной дочери Юпитера Фантазии» триумф мироздания. Лейбниц сводит реальность к монаде, чья суть — в стихийной мощи представлений. Кант создает систему, ось которой — Einbildungskraft, воображение. Шопенгауэр заключает, что мир — это наше представление, грандиозная фантасмагория, призрачная завеса образов, которые творит сокровенное космическое желание. А молодой Ницше обнаруживает в мироздании всего лишь театральную игру скучающего бога: «Мир — это сон и дым перед глазами того, кто от века не знает покоя».
Судьба личности в корне переменилась. Как в восточных сказках, нищий проснулся принцем. В конце концов Лейбниц присваивает человеку имя un petit Dieu[211]. Кант возводит его в сан верховного законодателя Природы. И, как всегда не знающий меры, Фихте не согласен на меньшее, заявляя: «Личность — это все».
Размышление о рамке
В комнате, где пишу, почти пусто. Среди считанных вещей — две фотографии и небольшой холст: в минуты невольного безделья, болезни или усталости я чаще всего останавливаюсь глазами на них. Фотографии смотрят друг на друга с противоположных стен. На одной — Джоконда из музея Прадо, на другой — «Мужчина с рукой у груди» неистового толедского грека. У неизвестного подвижное и страстное лицо, он как будто сдерживает рукой разошедшееся сердце и обжигает мир пылким взглядом. Белый воротник исходит звездным свечением, острая бородка вздрагивает, и, золотясь на фоне черной одежды, неуемным огнем поблескивает на поясе рукоятка шпаги. Мне всегда казалось, что это и есть самый верный портрет Дона Жуана — Дона Жуана в моей трактовке, не слишком похожей на привычную. Что до Джоконды, с ее выбритыми бровями и мягкой плотью моллюска, с неуловимой улыбкой, влекущей и неприступной разом, она для меня — воплощенная женственность. Дон Жуан — в первую голову мужчина, перед женщиной он мужчина и только: не отец, не муж, не брат и не сын. Точно так же Джоконда — сама суть женщины, ее неотразимого очарования. Мать и жена, сестра и дочь — все это своего рода окислы женского естества, маски, которые надевает женщина, перестав быть собой или еще не достигнув себя. Большинству женщин отпущен лишь миг расцвета, однако и мужчина остается Доном Жуаном разве что несколько мгновений. Сумей мы продлить эти минуты, растянув их на всю жизнь, у нас получились бы образцовые Дон Жуан и Донья Жуана. Потому что Джоконда на самом деле и есть Донья Жуана. Передо мной две фотографии на противоположных стенах. Вот бы поставить опыт: непобедимый Дон Жуан и впрямь оказывается лицом к лицу с Доньей Жуаной. Что тогда? Кажется, вокруг уже не комната, а лаборатория психолога, где идет решающий эксперимент. Опускается вечер, последние блики еще борются по углам с нашествием сумерек, а между фотографиями длится неустанный обмен энергией. Я не раз заставал их безмолвный диалог, атаку и отпор двух насыщенных смыслом картонных прямоугольников, когда они, как фейерверочные цитадели, издали сокрушали друг друга неслышными пылкими залпами.