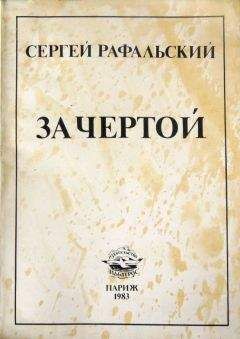Мария Голованивская - Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые мировоззренческие концепты французов и русских
Явные отличия французской картины мира в этой сфере фокусируются в наличии третьего понятия, обозначающего одновременно и разум, и чувство – sens, продолжающего линию esprit. Мы уже говорили о том, что если в русском языковом сознании рациональное и эмоциональное последовательно противопоставляются, то во французском такое противопоставление существует весьма условно. Французское sentiment, связанное этимологически с идеей обоняния, также на протяжении истории своего развития совмещало в своем значении «рациональное» и «эмоциональное» (до XIII века слово обозначало «способность мыслить» – ср. с пословицей, существующей до сих пор: autant de têtes, autant de sentiments).
Основной коннотативный образ, сопровождающий это понятие, приоткрывает для нас его специфику: sentiment – это нежное одушевленное растение, но не стихия, не дикий зверь, как в русском языке. Коннотативная связь с растением, помимо уже известных нам культурологических ассоциаций, объясняется также и этимологически, через идею запаха, который источают цветы и который будоражит чувства. Связь запаха и чувства однозначно находится в основе идеологии запаха, давшей бурный толчок для развития парфюмерной промышленности во Франции. У этого слова обнаруживаются также и другие специфические коннотативные образы, которые дают лишь фрагменты некоторой мировоззренческой картины, но не картину целиком. Понятие emotion до сих пор в ряде контекстов фигурирует с отрицательной коннотацией. Emotion (n. f.), этимологически связанное с волнением, определяется либо как чувство, овладевающее толпой, либо как чувство, сопровождающееся вегетативной реакцией человека (скорее отрицательное). Сохраняя преданность своей этимологии, émotion коннотируется как болезнь, что в целом очень характерно для всего описываемого нами ряда французских базовых эмоций.
Итак, мы увидели: что во французском языке сохраняется представление о единстве рационального и эмоционального начала (линия, по нашему мнению, идущая от Аристотеля), что центральная коннотация sentiment – цветок, и это, в свою очередь, обладает большой объяснительной силой для трактовки более широких культурных явлений; что émotion – это скорее волнение, нежели чувство. Применительно к русскому языковому сознанию мы видели, что чувство одухотворяется, отделяется от рационального, персонифицируется и взаимодействует с человеком как самостоятельное агрессивное существо или стихия, которая яростна по самой сути своей.
Представления французов и русских о чувстве и эмоции
Библиография
1. Вежбицкая А. Язык, культура, познание. М., 1996. С. 343.
2. Оаtlеу К. Best Laid Schemes: The Psychology of Emotions. Cambridge, 1992.
3. Апресян В. Ю. Эмоции: современные американские исследования // Семиотика и информатика. Вып. 34. М., 1994. С. 83.
4. Ekman P. Expression and the Nature of Emotion // Approaches to Emotion. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1984.
5. Рубинштейн Л. С. Основы общей психологии. М., 1946.
6. Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. 2. М., 1995. С. 453–465.
7. Вергилий. Энеида. 1 кн. М., 1971. С. 130.
8. Овидий. Метаморфозы. 1 кн. Ст. 179. Л., 1937.
9. Какабадзе 3. М. Проблема «экзистенциального кризиса» и трансцендентальная феноменология Эдмунда Гуссерля. Тбилиси, 1996.
10. Gignoux V. La philisophic existentielle. Paris, 1955.
11. Бердяев H. A. О рабстве и свободе человека. Париж, 1972.
12. Wiezbicka A. Semantic Primitives. Frankfurt, 1972.
13. Иорданская Л. Н. Попытка лексикографического толкования русских слов со значением чувства // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1970. Вып. 13.
14. Плунгян В. А. К описанию африканской «наивной картины мира» // Логический анализ языка. Культурные концепты. 1991. С. 156.
15. Barthes R. Fragments d’un discours amoureux. Paris, 1975.
Глава тринадцатая Представление французов и русских о страхе
Слово страх, зафиксированное в древнерусском и старославянском языках с XI века, не имеет явной этимологии (ЭСРЯ). Не имеет оно и явных соответствий в других индоевропейских неславянских языках. Возможно, оно связано со словом строгий (ИЭССРЯ), что представляется достаточно мотивированным и с точки зрения экстралингвистичесих факторов: страшение – один из способов воспитания повиновения, качества, культивируемого как в детях, так и у гражданских лиц. Однако представляется любопытным тот факт, что устрашение скорее связано с наказанием, а не с пробуждением в человеке (ребенке) экзистенциального страха перед потусторонней силой, будь то смерть, дьявол или проявление неконтролируемого животного начала в человеке. На эту мысль нас навел беглый анализ русских сказок, в большинстве которых главный герой (Иванушка-дурачок или Иван-царевич) не отмечен страхом или трепетом перед мифологическим злодеем (часто даже зооморфным – Змей Горыныч, Соловей-разбойник и пр.), а по глупости своей «прёт напролом» и именно через глупость, а не через добро побеждает «исчадье ада». Отметим точку зрения Д. С. Лихачева, рассматривавшего глупость в контексте исследования русской доброты (1). Такой особый вид бесстрашия представляется нам в большой степени характерным для русского сознания, зачастую приводящего человека к «глупой» гибели, но также к подвигу и бесстрашию в бою, что делало русских на протяжении многих веков безусловно сильными военными противниками, сумевшими победить Наполеона и Гитлера. Очевидно, что это не единственная причина одержанных побед. Но если посмотреть на русский страх шире, связать его с природным фатализмом (чему быть, того не миновать), отсутствием привычки подвергать события и обстоятельства окончательному анализу, а также отсутствием массового фобического невроза, происходящего от удивительной стабильности жизненного уклада (у феодализма и социализма немало общего, не так ли?), то становится понятно, что подсознательное отношение русских к страху как к чему-то крайне индивидуальному и малодостойному – действительно глубоко специфическая черта этого типа мировоззрения. Привычное для нас суждение, что страх – это слабость, как мы увидим далее, разделяется далеко не всеми народами.
Уточним: русским всегда был свойственен страх наказания, происходящего от грозного царя, родителя или самодура-начальника, над которыми в народе всегда смеялись. Однако источник этого страха был всегда конкретным и осознанным (также и в случае грозы, засухи или наводнения), то есть не создавал основы для невроза. Исключение – период сталинского террора, но это тема особая. В западной же культуре картина была принципиально иная: сказки типа «Мальчика-с-пальчика» или «Синей Бороды» создавали благодатную почву для невроза; живописные полотна, щедро изображавшие «страсти» разного рода, всевозможные истязания человеческой плоти (и в том, и в другом случае можно говорить об определяющей роли католицизма, материализовавшего проявления нечистой силы посредством разных изобразительных средств); костры инквизиции и постоянная конкуренция, обеспечивающая взлеты и падения – все это привело к созданию «тревожного» типа психического склада не только в рамках отдельных личностей, но и нации в целом. Вот отчего мы часто сталкиваемся с характеристикой, в частности, представителей французской нации как angoisses, вот отчего психоанализ и психоаналитики столь востребованы обществом, вот отчего, возможно, и произошло столь бурное развитие рационализма – как гиперкоррекции страха, как способа упорядочивания жизни и обуздания многоликой тревожности. Впрочем, это только лишь гипотеза, которую можно развивать или опровергать, однако отсутствие тревожного невроза у русских, интересно дополняющее также и картину русской безответственности, кажется любопытным штрихом, обогащающим представление о пресловутой русской душе.
Связь страха с непосредственным действием, а не с экзистенциальным неврозом, очевидна также и в определении Даля: страх – это страсть (см. особое значение страсти во множественном числе в соответствующих толковых словарях), боязнь, робость, сильное опасение, тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого действия (ТС). Отсюда же и перенесение этого слова на сам предмет, вызывающий страх (значение, отмеченное у Даля), и обозначение при помощи этого же слова (также см. у Даля) угрозы или острастки, а также покорства устрашенного.
В современном отрефлексированном языкознанием понимании страха (но, возможно, не в самом языке) присутствуют такие элементы толкования этого слова и его синонимического ряда: «чувство или состояние человека, при котором ему неприятно; такое чувство бывает, когда, ощущая опасность, человек также ощущает, что теряет нормальный контроль над ситуацией» (НОСС) или «страх – это неприятное чувство, подобное ощущению, которое бывает при холоде; он возникает, когда человек (или другое живое существо) воспринимает объект, который он оценивает или ощущает как опасный для себя и в контакт с которым он не хотел бы входить» (2). Отметим в этих определениях лишь материальность трактовки и отсутствие какого-либо намека на возможность существования невротического или экзистенциального страха.