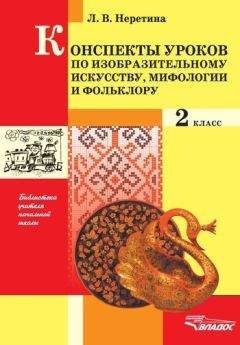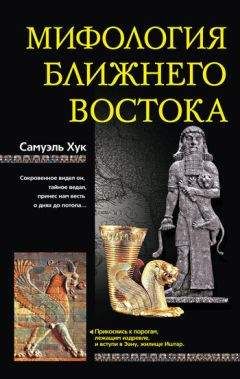Елеазар Мелетинский - Поэтика мифа
Тенденция к модернизации мифа на основе шопенгауэровских представлений усиливается в замечательной опере «Тристан и Изольда», где любовь и смерть представлены как трагически неотделимые. Предшественником Вагнера в этом плане можно считать Клейста как автора «Пентесилеи». Подобная трактовка сюжета Тристана и Изольды отходит от средневековой (некоторые тенденции такого рода едва намечаются в версии Тома). Однако в известном компендиуме Дж. Кэмпбелла «Маски бога» (см. прим. 64) вагнеровская интерпретация этого романически-мифологического сюжета уже целиком перенесена на его истоки. Вагнеровский мотив любви – смерти привился в модернистской литературе.
Недавно с реабилитацией вагнеровского мифотворчества выступил А. Ф. Лосев, который, однако, может быть, слишком непосредственно связывает художественные открытия Вагнера с его тягой к социализму и осуждением империализма. В статье А. Ф. Лосева читатель найдет интересный комментарий к «Кольцу Нибелунга», целый ряд глубоких и тонких наблюдений[158].
«МИФОЛОГИЧЕСКИЙ» РОМАН XX ВЕКА. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
«Мифологизм» является характерным явлением литературы XX в. и как художественный прием, и как стоящее за этим приемом мироощущение (дело, конечно, не только в использовании отдельных мифологических мотивов). Он ярко проявился и в драматургии, и в поэзии, и в романе; в последнем наиболее отчетливо выражена специфика новейшего мифологизма, в силу того что в прошлом столетии роман в отличие от драмы и лирики почти никогда не становился полем мифологизирования. Этот феномен несомненно расцвел на путях преобразования классической формы романа и известного отхода от традиционного критического реализма XIX в. Мифологизм не противостоит собственно критическому началу, он даже предложил дополнительные средства для заостренного выражения наблюдаемых процессов нивелировки человеческой личности, уродливых форм отчуждения, пошлости буржуазной «прозы», кризисного состояния духовной культуры. Мифологические параллели сами по себе не могли не подчеркивать кричащего несоответствия этой буржуазной «прозы» и высоких образцов мифа и эпоса. Роман в качестве «буржуазной эпопеи» сам сопоставил свой мир с подлинно эпическим уровнем. Однако пафос мифологизма XX в. не только и не столько в обнажении измельчания и уродливости современного мира с этих поэтических высот, сколько в выявлении неких неизменных, вечных начал, позитивных или негативных, просвечивающих сквозь поток эмпирического быта и исторических изменений. Мифологизм повлек за собой выход за социально-исторические и пространственно-временные рамки. Это могло, между прочим, проявляться и в известной релятивистской трактовке времени и частичной спатиализации.
В этом плане очень любопытна известная работа И. Франка[159] о спатиализации в современной литературе, о том, что мифологическое время вытесняет в современном романе объективное историческое время, поскольку действия и события определенного времени представляются в качестве воплощения вечных прототипов. Мировое время истории превращается в безвременный мир мифа, что находит выражение в пространственной форме. С этой точки зрения Франк рассматривает не только творчество Джойса, Элиота, Паунда, но и Пруста.
Социально-исторический подход во многом детерминировал структуру романа XIX в., поэтому стремление преодолеть эти рамки или подняться над этим уровнем не могло не нарушить ее решительным образом. Неизбежное при этом увеличение стихийности, неорганизованности эмпирического жизненного материала как материала социального компенсировалось средствами символики, в том числе мифологической. Таким образом, мифологизм стал инструментом структурирования повествования. Кроме того, широко использовались такие элементарные проявления структурности, как простые повторения, которым придавалась внутренняя значимость с помощью техники лейтмотивов. Стихия универсальной повторяемости характерна для архаических, фольклорно-эпических форм литературы, но техника, лейтмотивов в романе XX в. непосредственно восходит к музыкальной драме Вагнера, где лейтмотивы были уже теснейшим образом связаны с мифологической символикой. Само собой разумеется, что оперирование мифическими мотивами в качестве элементов романного сюжета или способов организации повествования не могло быть возвращением к подлинной первобытной мифологии. Этот вопрос в дальнейшем будет освещен. Предварительно необходимо только подчеркнуть такую важнейшую особенность неомифологизма в романе XX в., как его теснейшую, хотя и парадоксальную, связь с неопсихологизмом, т. е. универсальной психологией подсознания, оттеснившей социальную характерологию романа XIX в. Томас Манн в своей известной статье о Вагнере – предтече мифологизирующей литературы XX в. – ставил тому в заслугу именно сочетание «психологии» и «мифологии»[160].
Обращение к «глубинной» психологии в романе XX в. большей частью ориентировано на человека, более или менее эмансипированного от социальных «обстоятельств», и с точки зрения социальной психологии «романа характеров» даже антипсихологично. Сугубо индивидуальная психология оказывается одновременно универсально-общечеловеческой, что и открывает дорогу для ее интерпретации в терминах символико-мифологических. Мифологизирующие романисты испытали в большей или меньшей мере влияние Фрейда, Адлера и Юнга и отчасти воспользовались языком психоанализа, но обращение к подсознанию в романе XX в., разумеется, нельзя сводить к влиянию фрейдизма. Для романа чрезвычайно существенным было перенесение основного действия вовнутрь, что повлекло за собой разработку техники внутреннего монолога (начало которого было, как известно, положено еще Львом Толстым; Джойс ссылается на влияние Дюжардена, у которого внутренний монолог сочетается с вагнеровскими лейтмотивами) и «потока сознания», отчасти соотносимого с психоаналитическим методом свободных ассоциаций. Нельзя сказать, чтобы «поток сознания» неизбежно вел к мифологизму. Наоборот, трудно найти что-либо более удаленное от дорефлективного мифологического сознания, но психоанализ (особенно в юнгианской форме) со своей универсализующей и метафорической интерпретацией подсознательной игры воображения представил некий трамплин для скачка от болезненной психологии покинутого или угнетаемого одинокого индивида XX в. к предельно социальной (хотя в рамках неразвитого социального организма) дорефлективной психологии архаического общества. Такой скачок, однако, обязательно смягчается иронией и самоиронией как средством выражения огромной дистанции, отделяющей современного человека от подлинных первобытных мифотворцев.
Указанные некоторые самые общие черты мифологизма в романе XX в., казалось бы, прямо ведут нас к эстетике модернизма в том его конкретном понимании, которое выработано советской литературной критикой. У целого ряда авторов мифологизм довольно тесно сопряжен с их разочарованием в «историзме», со страхом исторических потрясений и неверием, что социальные сдвиги изменят метафизическую основу человеческого бытия и сознания. Достаточно вспомнить слова любимого героя Джойса – Стивена о «кошмаре истории», от которого он хотел бы пробудиться. Мифологические параллели и образы у Джойса несомненно подчеркивают неизбывную повторяемость одних и тех же неразрешимых коллизий, метафизическое кружение на одном месте личной и общественной жизни, самого мирового исторического процесса. Однако мировоззренческая окраска мифологизма у Томаса Манна в важнейших пунктах совсем иная и не может быть прямо сведена к модернистской эстетике в узком смысле термина; тем более это относится к современным латиноамериканским или афро-азиатским писателям, для которых мифологические традиции еще являются живой подпочвой национального сознания и даже многократное повторение тех же мифологических мотивов символизирует в первую очередь стойкость национальных традиций, национальной жизненной модели. И у них мифологизм влечет выход за чисто социальные рамки, но социально-исторический план продолжает жить рядом и в особых отношениях «дополнительности» с мифологическим. Отсюда, впрочем, не следует вывод о существовании нескольких самостоятельных «мифологизмов», не связанных друг с другом, сходных лишь чисто внешне.
АНТИТЕЗА: ДЖОЙС И ТОМАС МАНН
Мифологизация как явление поэтики в современном романе есть определенный феномен, единство которого нельзя полностью отрицать. Описание этого феномена мы начнем со сравнительного рассмотрения мифологизма у Джойса и Т. Манна – этих пионеров в области поэтики мифологизирования и создания мифологического романа как особой квазижанровой разновидности. Их часто сравнивают между собой[161] (даже литературоведы противоположных направлений, например американский юнгианец Дж. Кэмпбелл и венгерский марксист П. Эгри), несмотря на кардинальные различия между ними, несмотря на то что Т. Манн не отбрасывает, а только модифицирует классическую форму реалистического романа, что переход от социального плана к символическому у него более ограничен, сны и видения не вырываются за рамки субъективного сознания героев, релятивистские сдвиги времени и погружение во внеисторические глубины подсознания не отменяют у него объективного исторического плана. Джойсовскому бегству от истории в миф противостоят попытки Т. Манна уравновесить, примирить миф и историю, выявить роль мифа в организации исторического опыта, стремление остаться верным традициям и вместе с тем проложить путь в будущее. Нигилистическому изображению мерзости современной житейской прозы Т. Манн противопоставляет более гармонический рисунок, известный «полифонизм» как следствие «гётевского» уважения к самой жизни, В «Иосифе и его братьях» Т. Манн сохраняет гуманистический оптимизм и надежду на более справедливые человеческие отношения в результате социального прогресса, он гуманизирует миф и противопоставляет его нацистскому «мифотворчеству». Творчество Т. Манна вообще не укладывается в рамки модернизма (П. Эгри терминологически неудачно противопоставляет Т.Манна Джойсу как «модерниста» «авангардисту»), ибо сам модернизм является для него в известной мере объектом реалистического и критического исторического анализа.