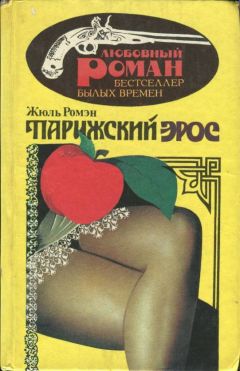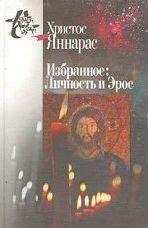Горько-сладкий эрос - Карсон Энн
Стихотворение идеально незавершенное. Одно предложение, в котором нет ни основного сказуемого, ни основного подлежащего, потому что до главного предложения дело так и не доходит. Единственная метафора, точное значение которой неясно, поскольку понятие, требующее пояснения (comparandum), так и не появляется. Возможно, это фрагмент эпиталамы, но, поскольку ни о какой свадьбе мы не знаем, утверждать это было бы необдуманно. Если и есть невеста, она остается недоступной. Ее недоступность – вот что мы видим. Как объект сравнения, «подвешенный» в строке 1, эта недосягаемость вызывает мощное притяжение – и грамматическое, и эротическое – у всего, что за ним следует, но завершения не происходит, опять же ни грамматического, ни эротического. Протянутые руки в финальном инфинитиве («сорвать») хватают воздух, а объект желания, навечно нетронутый, свисает с ветки двумя строками выше.
Действие стихотворения разворачивается в глаголах настоящего времени изъявительного наклонения и с последним словом наступает бесконечное разочарование (инфинитив). К пониманию, что в финале цель не будет достигнута, читателя осторожно и неоднократно подводят. Три строчки стихотворения следуют за разумом поэта по пути от восприятия к суждению, и на этом пути и восприятие (яблока), и суждение (почему оно там, где оно есть) подвергаются автокоррекции. Как только поэт поднимает глаза, чтобы обозначить, где находится яблоко («на ветке высокой»), он тут же придает его местонахождению («очень высоко на ветке») больше точности и удаленности. И как только поэт начинает толковать яблоко («забыли сорвать его люди»), он с ходу поправляется («нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели»). Каждая строка включает впечатление, которое тут же меняется и запускается заново. Дополнительные соображения произрастают из изначального заблуждения, и умственное действие отражается в звучании слов, когда анафорические слоги тянутся друг за дружкой от строфы к строфе (akrō… akron… akrotatō lelathonto… eklelathont’). Это движение подхватывается самим размером стиха: дактиль (строки 1 и 2) замедляется и удлиняется до спондея (строка 3) по мере того, как яблоко отдаляется дальше и дальше.
Каждая строфа, нужно также заметить, применяет меры к исправлению собственных звуковых единиц. Первая содержит два примера метрического приема под названием коррепция. Коррепция в дактилическом гекзаметре – допущение, позволяющее сократить долгую гласную или дифтонг, оставляя ее при этом в хиатусе с последующей гласной. Здесь два примера коррепции располагаются близко друг к другу (-tai akrō ep-), отчего создается впечатление, что звуки движутся, скользят друг по другу, это похоже на дерево с густыми ветвями, по которым взгляд скользит, пробираясь к самой высокой. Строчки 2 и 3 содержат еще один корректирующий прием: элизию. Она представляет собой куда более бесцеремонный способ борьбы с хиатусом: первая гласная попросту опускается. Элизия возникает единожды во второй строчке (ep’ak-) и три раза в третьей (-thont’ all’ ouk edunant’ep-). И коррепция, и элизия могут рассматриваться как приемы удержания звуковой единицы от выхода за пределы точной позиции в ритмической картине. Эти приемы разнятся степенью дозволенного: первый отчасти допускает, второй же полностью отсекает возможность дотянуться. (Иными словами, коррепция – своего рода метрическое декольте, тогда как элизия стремится укрыть соблазнительную гласную от взглядов.) В процессе чтения мы ощущаем, как напряжение постепенно нарастает. Попытки дотянуться до желаемого снова и снова предпринимаются на протяжении разных строк разными же способами, но с каждой последующей строкой становится все яснее их тщетность. Тройная элизия в строке 3 говорит сама за себя. Если в первой и второй строках взор поэта относительно беспрепятственно скользит в сторону яблока на самом верху, то строка 3 перехватывает протянутую руку на лету.
Всего элизий в стихотворении пять; три из них затрагивают предлог epi, который заслуживает пристального внимания, поскольку он является ключевым для понимания этимологии и морфологии стихотворения. Epi — предлог, обозначающий направление движения: к, в, за (в стремлении к). Действие этого напористого предлога формирует стихотворение на каждом из уровней. В звуках, ритмических эффектах, мыслительных процессах, содержании нарратива (а также во внешнем поводе к написанию, если это и в самом деле фрагмент эпиталамы) этого стихотворения проигрывается эротический опыт. Сложный опыт, в котором содержится и gluku, и pikron. Сапфо начинает со сладкого яблока, а заканчивает бесконечным голодом. Вот как на практике выглядит «дотянуться до желаемого»: прекрасный (объект), тщетные (попытки), бесконечное (время).
Натолкнуться на границы
Эрос – вопрос границ. Он существует постольку, поскольку существуют определенные границы. Именно в промежутке между «тянуться» и «схватить», между взглядом и ответным взглядом, между «Я люблю тебя» и «Я тоже тебя люблю» и оживает отсутствующее присутствие желания. Но границы времени, взгляда и любовного признания – лишь остаточные следы главной, неизбежной границы, что порождает эрос: границы плоти и собственного «я», которые разделяют Я и Ты. И лишь когда – вдруг! – я захочу, чтобы эти границы исчезли, пойму: это невозможно.
Ребенок учится видеть, замечая границы вещей. Как он понимает, что это границы? Страстно желая, чтобы их не было. Опыт эроса как отсутствия заставляет человека осознать собственные границы, границы других и предметов вообще. Это она, граница, отделяет мой язык от вкуса, который он желает познать, – и тем самым учит меня, что такое граница. Подобно прилагательному glukupikron, употребленному Сапфо, именно момент желания низвергает границы как таковые, когда противоположности оказываются спрессованы вместе под давлением. Удовольствие и боль воспринимаются любящим одновременно в той степени, в какой желанность объекта любви проистекает, отчасти, из его, объекта, отсутствия. Отсутствия у кого? У любящего. Если мы отследим траекторию эроса, мы обнаружим ее постоянство: от любящего к любимому, рикошет – и снова к любящему и прорехе в нем, невидимой ранее. Какова истинная тема большинства стихотворений о любви? Не возлюбленный. А эта прореха.
Когда я тебя желаю, то теряю часть себя: мной завладевает потребность в тебе. Так размышляет любящий на границе эроса. Присутствие потребности пробуждает в нем тоску по собственной целостности. Его мысли обращаются к вопросу самоопределения: чтобы снова стать целым, он должен найти и вернуть на место то, чего лишился. Locus classicus, классическая цитата, описывающая такой взгляд на желание, – монолог Аристофана из Платонова «Пира», где комедиограф с помощью фантастической антропологии объясняет природу эроса у людей (Symp., 189d–193d). Прежде человеческие существа были округлыми организмами, состоящими из двух людей, соединенных друг с другом в форме идеальной сферы. Они катались повсюду и были очень счастливы. Но сферические люди возжелали чересчур многого, вознамерившись закатиться на Олимп, и Зевс рассек их надвое. В результате каждый должен всю жизнь искать свою вторую половину, чтобы снова стать сферическим. «Итак, каждый из нас – это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину» (191b).
Большинству нарисованная Аристофаном картинка – разделенные надвое влюбленные – покажется тревожно знакомой и понятной. Всякое желание – поиск отсутствующей части себя, во всяком случае, так кажется влюбленному. Миф Аристофана находит этому оправдание, свалив все на Зевса, как заведено у греков. Но Аристофан – поэт комический. Мы можем поискать более серьезных влюбленных и выслушать их экзегезу. Одна особенность в их рассуждениях сразу же бросается в глаза, она просто ошеломляет.
Логика у границ
…мы чуть прикоснулись к ней всем трепетом нашего сердца. И вздохнули, и оставили там «начатки духа», и вернулись к скрипу нашего языка, к словам, возникающим и исчезающим [32].