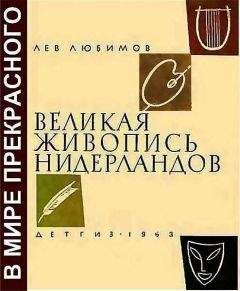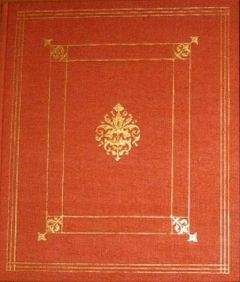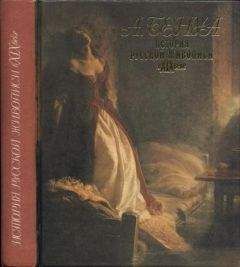Алексей Чагин - Пути и лица. О русской литературе XX века
Разящая сила статьи Г.Иванова заключалась в том, что автор ее, выступивший в роли «развенчателя» Ходасевича, всей своей аргументацией бил в самую уязвимую точку его поэзии: Блоком нужно родиться, а Ходасевичем можно стать. Статьей этой Г.Иванов (которому Дон Аминадо дал в свое время прозвище «Жорж опасный») еще раз подтвердил свою славу сокрушителя литературных репутаций, умеющего — при желании — увидеть самые слабые стороны в творчестве оппонента. Ведь Владислав Ходасевич — которого даже восторженно писавший о нем В.Вейдле назвал «бескрылым гением» — и сам сознавал (будучи человеком трезвого ума и безупречной в литературе честности), что поэтическая его слава и действительное место в литературе определены в первую очередь исключительным его мастерством, – но что та лирическая сила, та «верховная музыка», которая была открыта Блоку, не захватила его целиком, вознося на новую высоту.
В этом была бесспорная правота статьи Г. Иванова (потому и нашедшей немало сторонников), — но в этом была и неполнота ивановской правоты, ее недосказанность. Да, сила В.Ходасевича-поэта была в его мастерстве, и он сам понимал это, доводя «огранку» своих стихотворений до совершенства. Но можно ли всерьез — если речь не идет о бездарном версификаторстве — отделить мастерство от существа поэзии? Ведь даже Г.Иванов в своей злополучной статье (о которой потом жалел) вынужден был признать, что «конечно, Ходасевич все-таки поэт, а не просто мастер-стихотворец» [40]. И, значит, прав был В.Вейдле, когда утверждал: «На самом деле, в поэзии, как в любом искусстве — увы или слава Богу — мастерство есть волшебство, а волшебство есть мастерство, и Ходасевич этим отнюдь не ремесленным, волшебным мастерством полностью обладал, ни малейшего не проявляя в нем изъяна. Есть поэты больше него, — по крылатости, как Блок, по человеческой широте чувства, по законодательной власти над стихом и языком, но в пределах своего мастерства и волшебства он настолько же поэт, насколько и они поэты» [41].
Далекое и не самое крупное из событий литературной жизни русского Парижа, его последствия («споры на Монпарнасе», обмен ударами в печати), взаимная аргументация заслуживают здесь упоминания главным образом потому, что объективно обращают нас к одной из важных проблем развития зарубежной русской поэзии 1920—1930-х годов. В своих воспоминаниях Ю.Терапиано объясняет описываемые события причинами внелитературными — в частности, сам факт появления статьи Г.Иванова он связывает с обидой на Ходасевича по совершенно частному поводу. Это естественно в книге воспоминаний, здесь есть своя правда — правда мемуариста, очевидца событий. Однако, если мы взглянем на те же события с более высокой точки обзора — с позиции истории литературы, то за частоколом случайных и неслучайных фактов обнаружим, что литературная «дуэль» Г.Иванова и В.Ходасевича имела и аллегорический смысл, что в ней отразилось более крупное и значительное противостояние, существовавшее в поэзии русского зарубежья в те годы.
Вдумаемся в сам характер аргументации обеих сторон в этом споре. Г Иванов, признавая Ходасевича «первокласснейшим мастером», все же отделял в своих суждениях мастерство от волшебства (по выражению В.Вейдле). Именно с этой позиции он обрушился на попытки восхваления Ходасевича эмигрантской критикой.
Прямого ответа на статью Г.Иванова от В.Ходасевича, разумеется, не последовало. Однако позиция его была известна, она не раз высказывалась поэтом в длившейся годами полемике между «Последними новостями», где работал Г.Адамович, журналом «Числа», объединившим молодых поэтов, разделявших творческие идеи Г.Иванова и Г.Адамовича, — и «Возрождением», где Ходасевич, будучи ведущим литературным критиком этой газеты, имел четверговую трибуну. В целом ряде своих статей В.Ходасевич последовательно противостоял утверждениям Г.Адамовича — признанного властителя дум большого числа парижских поэтов — о необходимости простоты и обнаженной искренности в поэзии, не заслоненной от читателя излишней заботой о мастерстве и форме. Глубоко трагический взгляд на мир и человека, свойственный многим поэтам на рубеже 1920-х и 1930-х годов, Г.Адамович считал самодостаточным в поэзии, отстаивая первенство лирического дневника, свободного от «красивостей» и ухищрений формы (так же, как близкая ему в этих взглядах З.Гиппиус утверждала первенство искусства как «человеческого документа»). В.Ходасевич же, подчеркивая мысль о неотделимости формы от содержания, доказывал, что «в том, как видится мир художнику, заключается философствование художника» [42]. Отвечая З.Гиппиус по поводу романа «некоего г. Таманина», Ходасевич замечал: «Несогласие наше в основе сводится к тому, что, находя в романе некоторые художественные недостатки, Гиппиус требует, чтобы критика их простила г.Таманину ради идейной, прости Господи, начинки, которая лезет из пухлого таманинского произведения, как капуста из пирога. Я же думаю, что произведение художественно никчемное никакой начинкой не спасается, как безголосые певчие не спасаются “отменным поведением”» [43]. Отметив про себя, как совпадает этот давний спор с тем, что происходило в литературе и критике в России примерно в те же годы, не забудем и язвительное упоминание Ходасевича о критиках, «с наивностью невежества» презирающих вопросы формы, которые для них «нечто вроде “изучения тараканьей ножки”» [44].
Неизбежно спор этот (за которым стоял и напряженный диалог различных поэтических течений) обращал мысли участников к проблеме традиций. В размышлениях Ходасевича о гармонии взаимоотношений формы и содержания не раз, конечно же, возникало имя Пушкина. Собственно, к Пушкину в связи с этой проблемой Ходасевич обращался задолго до эмигрантских споров еще в своем знаменитом докладе «Колеблемый треножник», прочитанном в 1921 году на пушкинском торжестве в Петрограде. Уже тогда он, вынужденно затронув эту тему, выступил против проповеди и «главенства формы», и «главенства содержания», подчеркнув, что «и то, и другое одинаково враждебно всему духу пушкинской поэзии» [45].
Если для Ходасевича и позже, в годы эмиграции, имя Пушкина осталось символом национальной культурной традиции, тем именем, которым можно «аукаться, …перекликаться в надвигающемся мраке» [46], — то для его литературных оппонентов этот выбор был не бесспорен. В противовес ему, как вспоминает Г.Адамович, в тридцатые годы было выдвинуто другое великое имя — Лермонтов. Именно в противовес — не случайно Г.Адамович нашел это слово [47]. На рубеже 1920-х и 1930-х, в момент исторического безвременья (а для поэтов зарубежья оно было особенно безысходным), на фоне кризиса европейской культуры многие поэты русского Парижа объединились в желании отойти от забот о форме в поэзии, от «словесной изобретательности» — с тем, чтобы «просиять и погаснуть» в найденном единственно-важном слове, несущем в себе окончательную правду души человеческой — правду любви и сострадания к ближнему. В этих поисках «миража поэзии абсолютной», в поисках далекого от «словесных фейерверков» окончательного слова , могущего выразить невыразимое, ответить на коренные вопросы жизни — имя Лермонтова воспринималось многими поэтами (в сравнении с именем Пушкина) «не то чтобы с большим литературным пиететом или восхищением, нет, но с большей кровной заинтересованностью…» [48] Самим «трагически-дружественным» тоном своей поэзии, вспоминает Г.Адамович, Лермонтов больше отвечал стремлению многих поэтов зарубежья выразить в слове все обострявшийся драматизм мира и судьбы человеческой. Важно здесь было и другое, о чем прямо сказал Г.Адамович: «…Пушкин, конечно, художник более совершенный, и даже последние, поздние, почти зрелые лермонтовские стихи… неизменно уступают стихам пушкинским в точности, в пластичности, в непринужденности, в той прохладной царственной бледности, которая роднит Пушкина с греками… Нет, в области приближения к совершенству Лермонтов от Пушкина отстает и едва ли его когда-нибудь нагнал бы. Но у Лермонтова есть ощущение и ожидание чуда, которого у Пушкина нет. У Лермонтова есть паузы, есть молчание, которое выразительнее всего, что он в силах был бы сказать. Он писал стихи хуже Пушкина, но при меньших удачах, его стихи ближе к тому, чтобы действительно стать отражением “пламя и света”» [49].
Не обсуждая правоту или неправоту данных здесь оценок, обращу лишь внимание читателя на то, что сам ход размышлений Г.Адамовича близок позиции Г.Иванова в его статье о В.Ходасевиче — поэтическая форма отделена в этих размышлениях от содержания, и именно с точки зрения «главенства содержания» предпочтение отдается Лермонтову. Конечно, это отвечало творческим устремлениям Г.Адамовича и пестуемых им парижских поэтов (составивших многоликое сообщество, названное с легкой руки Б.Поплавского «парижской нотой»), которые в поисках всесильного в своей исповедальности нагого поэтического слова отстранились от работы над формой, «отсекая» все лишнее. «Все, что в поэзии может быть уничтожено, должно быть уничтожено: ценно лишь то, что уцелеет» [50] — такова была их поэтическая вера. При всей кажущейся бесспорности этого принципа неотступное следование ему приводило, по словам самого его автора, к «поэтической катастрофе», к самоуничтожению стиха. «…На деле бывало так: слово за словом, в сторону, в сторону, не то, не о том, даже не выбор, а отказ от всякого случайного, всякого произвольного предпочтения, без которого нет творчества, но которое все-таки искажает его “идею” в платоновском смысле, не то, нет, в сторону, в сторону, с постепенно слабеющей надеждой что-либо найти, и в конце-концов — ничего, пустые руки…» [51] Логическим венцом такой позиции, ее завершением не могла не стать идея «чистой страницы», смутная догадка о том, что «стихи нельзя писать никак», что «настоящих стихов нет, все наши самые любимые стихи “приблизительны”, и лучшее, что человеком написано, прельщает лишь лунными отсветами неизвестно где затерявшегося солнца» [52].