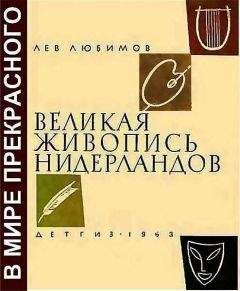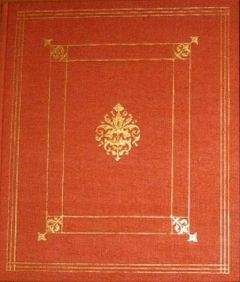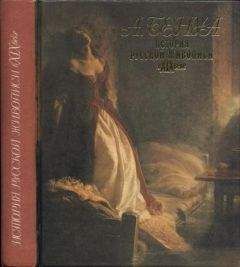Алексей Чагин - Пути и лица. О русской литературе XX века
Более того, происходящее на пути от единичного к общему обращение к конкретным поэтическим явлениям в целом ряде случаев носит в этой работе характер своего рода «аналитического экстремизма», т.е. опирается на предельно развернутый анализ текста, затрагивающий все «этажи» художественного здания, возведенного автором произведения, — и бросающий лучи в контекст всего творчества поэта, а оттуда — и в более широкое историко-культурное пространство.
Такой подход к исследованию материала позволяет высветить «механизмы» целостности литературы на первичном и, значит, наиболее достоверном уровне их проявления — на уровне «клетки» живого организма произведения, т.е. в пределах художественного образа. Только отсюда, из глубин образа становятся окончательно ясны и закономерности, действующие в поэтическом мире автора, и соотношение его с иными художественными мирами, возникающими на обоих путях русской поэзии.
ПУТИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА
Обращение литературы зарубежья к идее преемственности, объединение ее (в 1920-е годы) во взятой на себя мессианской роли хранительницы национальной литературной (культурной) традиции явилось выбором и неизбежным, и непростым. За ним стояло, конечно, и неприятие того, что происходило в России — в частности, стремление противопоставить свою позицию громко звучавшим на оставленной родине в начале 1920-х годов голосам авангардистских поэтических групп. (Во многом именно поэтому ориентация литературы зарубежья на традицию приняла в 1920-е годы «дополнительный оттенок размежевания с радикальными литературными течениями начала 1910-х годов» [32].) Очевидно здесь и естественное желание обрести в новых условиях, вдали от России духовную опору, «культурную родину» [33].
Непростым и не единым было и понимание верности традиции, путей ее сбережения. Часто — особенно в 1920-е годы — приверженность традиции у того или иного писателя в зарубежье оборачивалась творческим «торможением», консервацией литературной позиции. Именно на эту вполне реальную опасность настойчиво обращал внимание В.Ходасевич. «“Задача эмиграции, — писал он в статье 1933 года, — ее (русскую литературную традицию. — А.Ч.) сохранить и передать будущим поколениям”. Такова формула, с самого начала не раз на все лады повторявшаяся эмигрантскими писателями и по существу не могущая вызвать никаких возражений. Несчастье только в том, что с самого же начала в эти верные слова был вложен неверный смысл, что и привело зарубежную литературу к тому печальному состоянию, в котором она ныне находится». Обращаясь к опыту писателей старшего поколения, «деятельностью которых с первых дней эмиграции предрешен ход дальнейшей литературной жизни», Ходасевич замечал, что «был создан ряд превосходных и просто хороших вещей – этого нельзя забывать. Но их авторы принесли с собой из России готовый круг образов и идей…, и запас приемов, к которым они привыкли. Творчество их в изгнании пошло по привычным рельсам, не обновляясь ни с какой стороны… Их произведения, помеченные Берлином или Парижем, могли быть написаны в Москве или в Петербурге. Казалось, писатели перенесли свои столы с Арбата в Отей, чудесным образом не сдвинув с места ни одной чернильницы, ни одного карандаша, и уселись писать как ни в чем не бывало». Будучи одним из самых последовательных приверженцев классической традиции, Ходасевич напоминал о том, что «дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления… Таким образом, литературный консерватизм ничего не имеет общего с литературной реакцией. Его цель — вовсе не прекращение тех маленьких взрывов или революций, которыми литература движется, а как раз наоборот — сохранение тех условий, в которых такие взрывы могут происходить безостановочно, беспрепятственно и целесообразно. Литературный консерватор есть вечный поджигатель: хранитель огня, а не его угаситель» [34].
Справедливость размышлений Ходасевича ясна, — как, впрочем, очевидна и излишняя суровость его оценки положения дел в литературе зарубежья, состояние которой не было все же столь «печальным». При всей реальности проблемы, на которую обратил внимание Ходасевич, для лучших писателей зарубежья задача сохранения традиции не означала ее омертвения. Со временем это становилось все яснее (об этом, в сущности, писал и Ходасевич в целом ряде своих рецензий). Один из лучших литературных критиков русского зарубежья В.Вейдле подчеркивал: «Традиция — не повторение пройденного.., а новизна — не новаторство, и Ходасевич… нов,— куда новей, чем Зданевич или Шершеневич. <…>. Позже, когда вышла “Жизнь Арсеньева”, я не раз думал, что в ней не меньше новизны, хоть и совсем другой, чем в “Защите Лужина” или “Даре”» [35].
Отношение к традиции во многом определяло пути развития русской поэзии за рубежом. Уже в первые годы эмиграции, с начала 1920-х годов, возникла оппозиция левым течениям в поэзии, надолго — при разных поворотах литературного процесса — оставшаяся наиболее мощной тенденцией поэтического развития в зарубежье. «Хаосу» — «формальной левизне», – вспоминает участник событий литературной жизни тех лет, — «… противопоставлялся “Космос” — неоклассицизм, связь с “Золотым веком” русской поэзии и, конечно, акмеистическая вещность и ясность» [36]. При всей субъективности конкретных оценок (с «Золотым веком» и с «акмеистической вещностью» все было несколько сложнее, о чем речь еще впереди), Ю.Терапиано совершенно точно определил сам характер противостояния, определившего эстетическое лицо поэзии русского зарубежья в 1920-е и, во многом, в 1930-е годы.
Конечно, и «внутри» этой тенденции все было достаточно сложно — были определенные этапы поэтического обновления под знаком традиции, были свои антиподы, были противостоящие позиции, была и литературная борьба. Стоит, видимо, вспомнить об одном противостоянии, оказавшемся на рубеже 1920-х и 1930-х годов в центре литературной жизни русского Парижа и связанном со значительными проблемами развития зарубежной русской поэзии в те десятилетия.
* * *
8 марта 1928 г., в 2542-м номере «Последних новостей» появилась статья Георгия Иванова, сразу привлекшая внимание читающей русской публики. Называлась она «В защиту Ходасевича». В статье Г. Иванов, признаваясь в давней любви к стихам В.Ходасевича, давал уничтожающую характеристику его поэзии. Называя Ходасевича «прилежным учеником Баратынского», отмечая «формальные достоинства» стихов Ходасевича, присущее им «единственное в своем роде сочетание ума, вкуса и чувства меры», Г.Иванов продолжал: «Но можно быть первоклассным мастером и — остаться второстепенным поэтом. Недостаточно ума, вкуса, уменья, чтобы стихи стали той поэзией, которая, хоть и расплывчато, но хорошо все-таки зовется поэзией “Божьей милостью”. Ну, конечно, прежде всего должны быть “хорошие ямбы”, как Рафаэль должен прежде всего уметь рисовать; чтобы “музыка», которая есть у него в душе, могла воплотиться. Но одних ямбов мало. Ямбами Ходасевич почти равен Баратынскому. Но ясно все-таки: “стотысячеверстное” расстояние между ними». Завершил статью Г.Иванов убийственным выводом: «…Ходасевич — первокласснейший мастер. Но для прилежного, умного ученика поэзия эта не является недостижимым образцом. Все дело в способностях и настойчивости. Да, “Ходасевичем” можно “стать". Трудно, чрезвычайно трудно, но — можно. Но Ходасевичем не Пушкиным, не Баратынским, не Тютчевым… не Блоком» [37].
«Защита Ходасевича» оказалась, таким образом, защитой от «грубой славы» (Ходасевич писал: «Ни грубой славы, ни гонений от современников не жду…»), от чрезмерных, как полагал Г.Иванов, восхвалений поэта критиками, провозглашавшими его «Арионом эмиграции» (Д.Мережковский), «нашим поэтом после Блока» (В.Вейдле).
Эффект от статьи Г.Иванова был поразительный. Ю.Терапиано, тогда молодой поэт, посвятил позднее этому событию в своей книге воспоминаний специальную главу, названную — «Об одной литературной войне». По его свидетельству, Ходасевич (с которым автор воспоминаний был близок в те годы) «был глубоко потрясен, обижен, оскорблен и открыто упрекал редакцию “Последних новостей” в том, что она могла напечатать такую статью о нем» [38]. Статья сразу оказалась в центре внимания и поэтов, и любителей поэзии. Молодые поэты в своих оценках разделились: часть из них (прежде всего, из близкой Ходасевичу группы «Перекресток») открыто поддерживала своего мэтра, другая, более многочисленная, группа «молодых» стала на сторону Г.Иванова. «Споры на Монпарнасе не раз грозили перейти в открытое столкновение», — вспоминает Ю.Терапиано [39].
Разящая сила статьи Г.Иванова заключалась в том, что автор ее, выступивший в роли «развенчателя» Ходасевича, всей своей аргументацией бил в самую уязвимую точку его поэзии: Блоком нужно родиться, а Ходасевичем можно стать. Статьей этой Г.Иванов (которому Дон Аминадо дал в свое время прозвище «Жорж опасный») еще раз подтвердил свою славу сокрушителя литературных репутаций, умеющего — при желании — увидеть самые слабые стороны в творчестве оппонента. Ведь Владислав Ходасевич — которого даже восторженно писавший о нем В.Вейдле назвал «бескрылым гением» — и сам сознавал (будучи человеком трезвого ума и безупречной в литературе честности), что поэтическая его слава и действительное место в литературе определены в первую очередь исключительным его мастерством, – но что та лирическая сила, та «верховная музыка», которая была открыта Блоку, не захватила его целиком, вознося на новую высоту.