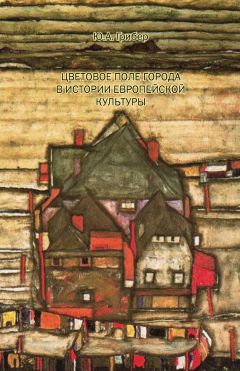Хосе Ортега-и-Гассет - Восстание масс (сборник)
Именно ради этого Святой Маврикий отдал свою жизнь и жизни своих легионеров. Иначе она не была бы, в полном смысле слова, его жизнью. Чтобы стать вровень с собою, остаться верным себе, потребовалось без оглядки, всем существом раствориться в смерти. Воля к смерти — всегда залог воскресения. Отказ от жизни становится высшим утверждением личности — возвращением с периферии существования к его духовному центру.
Большинству известен лишь первый, экономический смысл слова «желание». Мы перекидываемся с предмета на предмет, с одного действия на другое, не отваживаясь сосредоточиться ни на одной цели. Есть талант желать, как талант мыслить, и только немногие способны добыть из-под спуда общественной пользы, которая диктует каждый шаг и выверяет любой поступок, свое истинное желание. Постепенно привыкаешь называть жизнью состояние, когда тебя ведут, вместо того чтобы управлять собой собственноручно.
Поэтому полнота желания для меня характеристика нравственная. Когда мы хотим чего-то всей душой — целиком, без околичностей и подозрений, — тогда мы и поступаем согласно долгу. Ведь высший долг живущего — верность себе. Общество, где каждый вправе оставаться собой, я бы назвал совершенным. И разве быть целостным человеком не значит в любой мелочи сохранять верность своему существу, не подштопанному компромиссами, прихотями и уступками ближним, традиции или предрассудку?
Поэтому и Дон Жуан для меня — фигура высочайшей нравственности. Он скитается по свету, ища то, что поглотило бы его способность любить целиком: в этой погоне его пыл неистощим. Но поиски безрезультатны, и потому он умом скептик, хотя сердцем — герой. Для него уже весь мир на одно лицо, нет никого особенного, все одинаковы. Его считают легкомысленным, но это заблуждение. Он не дорожит собой, поскольку ему все равно. В угоду прихоти он готов поставить жизнь на что угодно — да вот хоть на эту карту. В том и трагедия Дона Жуана, что он — герой без цели.
Эль Греко весь свой век писал смерть и воскресение. Пассивное прозябание он отвергал наотрез. Люди на его портретах горят, готовые изойти в последней вспышке.
Как сейчас помню тот давний день, когда по бесконечной лестнице дома на улице Коленкур я поднялся на самый верх, в мастерскую Сулоаги.
Я очутился в скромной, необставленной квартирке, как будто четыре стены сохранили среди парижской роскоши пустынный и неприветливый мир, глядящий из глубины любого холста Сулоаги. Лишь на одной стене висела картина — «Апокалипсис» Эль Греко. Точней, нижняя часть этого полотна, которую в своих разъездах по кастильской глуши Сулоага чудом обнаружил. Если верить описи имущества Греко, недавно найденной сеньором Сан-Романом, этот холст был, вероятно, одной из последних работ Доменико Теотокопули. На нем как бы посмертное видение материи сжигаемому собственным огнем духу. На первом плане слева — огромный святой Иоанн, старик, воздевший руки с ужасом и мольбою. За ним, под великой битвой в облачной высоте, — пылающие нагие тела, рвущиеся воспарить и истаять в бестелесной, уже почти духовной драме небес. И больше ничего. Да и нужно ли что-то еще? «Апокалипсис» — образец и прообраз искусства: прямо перед нами, в пугающей близости — сам простейший и глубочайший предмет живописи как таковой. Клочок материи, обреченной огню.
Две главные метафоры
Когда тот или иной автор упрекает философию в использовании метафор, он попросту признается, что не понимает и философию, и метафору. Ни один из философов не избежал подобных упреков[208]. Метафора — незаменимое орудие разума, форма научного мышления. Употребляя ее, ученому случается сбиться и принять косвенное или метафорическое выражение собственной мысли за прямое. Подобная путаница, конечно же, достойна порицания и должна быть исправлена; но ведь такого рода погрешность может допустить при расчетах и физик. Не следует же отсюда, будто математику надлежит изгнать из физики. Ошибка в применении метода не довод против него самого. Поэзия изобретает метафоры, наука их использует, не более. Но и не менее.
С боязнью метафор в науке происходит ровно то же, что со «спором о словах». Чем неусидчивее ум, тем охотнее он считает любую дискуссию всего лишь спором о словах. И, напротив, до чего же редки эти споры на самом деле! Строго говоря, вести их способен лишь тот, кто искушен в грамматике. Для других же слово равно значению. И потому, обсуждая слова, труднее всего не подменять их значениями. Или тем, что старая логика по традиции именовала понятиями. А поскольку понятие — это в свою очередь нацеленность мысли на предмет, споры будто бы о словах — на самом деле дискуссии о предметах. Разница между двумя значениями или понятиями — иначе говоря, предметами — бывает настолько мала, что для человека практического либо недалекого не представляет никакого интереса. И тогда он обрушивается на собеседника, обвиняя его в пустых словопрениях. Мало ли на свете близоруких, готовых считать, будто все кошки и впрямь серы! Но точно так же всегда отыщутся люди, способные находить высшее наслаждение в малейших различиях между предметами; эти виртуозы оттенков есть всюду, и в поисках любопытных идей мы обращаемся именно к ним, спорщикам о словах.
Ровно так же неспособный или не приученный размышлять ум при чтении философского труда вряд ли примет за простую метафору мысль, которая и в самом деле всего лишь метафорична. То, что выражено in modo obliquo, он поймет in modo recto, приписав автору ошибку, которую в действительности привнес сам. Ум философа должен, как никакой другой, безостановочно и гибко переходить от прямого смысла к переносному, вместо того чтобы костенеть на каком-то одном. Киркегор рассказывает о пожаре в цирке. Не найдя, кого послать к публике с неприятным известием, директор отправляет на арену клоуна. Но, слыша трагическую новость из клоунских уст, зрители думают, что с ними шутят, и не трогаются с места. Пожар разгорается, и зрители гибнут — от недостаточной пластичности ума.
Метафору в науке используют в двух разных случаях. Во-первых, когда ученый открывает новое явление, иначе говоря, создает новое понятие и подыскивает ему имя. Поскольку новое слово окружающим ничего не скажет, он вынужден прибегнуть к повседневному словесному обиходу, где за каждым словом уже записано значение. Ради ясности он в конце концов избирает слово, по смыслу так или иначе близкое к изобретенному понятию. Тем самым термин получает новый смысловой оттенок, опираясь на прежние и не отбрасывая их. Это и есть метафора. Когда психолог вдруг открывает, что мысленные представления связываются между собой, он говорит, что они сообщаются, то есть ведут себя словно люди. Точно так же и тот, кто первым назвал объединение людей «обществом», придал новую смысловую краску слову «сообщник», прежде обозначавшему просто-напросто идущего следом, последователя, sequor. (Любопытно, что этот исторический пример подтверждает идеи о происхождении общества, изложенные в моей книге «Бесхребетная Испания».) Платон пришел к убеждению, будто истинна не та изменчивая реальность, что открыта глазу, а другая — непоколебимая, невидимая, но предвосхищаемая в форме совершенства: несравненная белизна, высшая справедливость. Для этих незримых, но открытых разуму сущностей он нашел в обыденном языке слово «идея», то есть образ, как бы говоря: ум видит отчетливее глаза.
Строго говоря, следовало бы заменить и сам термин «метафора», чей привычный смысл может увести в сторону. Ведь метафора — это перенесение имени. Но тысячи случаев переноса не имеют ничего общего с метафорой. Вот лишь несколько избитых примеров.
Слово «монета» означает отчеканенный металлический предмет, опосредующий торговые операции. Но первоначально оно значило «та, которая увещевает, уведомляет и оповещает» и было прозвищем Юноны. В Риме стоял храм Юноны Монеты, при котором существовала и служба чеканки. Этот придаток отобрал у Юноны имя. И теперь при слове «монета» никто уже не вспомнит о надменной богине.
Слово «кандидат» означало человека в белых одеждах. Когда гражданин Рима избирался на государственную должность, он представал перед голосующими в белом наряде. Теперь кандидат — это каждый, кого избирают, вне зависимости от цвета платья. Больше того, избирательные торжества нашего времени склоняются к черному костюму.
«Забастовать» — по-французски «se mettre en greve»[209]. Почему слово «greve» означает забастовку? Сами говорящие этого не знают, да и не задаются подобным вопросом. Для них слово напрямую отсылает к смыслу. «Greve» первоначально значило «песчаный берег». Парижская ратуша была неподалеку от реки. Перед ней простирался песчаный берег, greve, по которому и ратушная площадь получила название place de la Greve. Здесь собирались безработные, позже — уволенные, в ожидании найма. Faire greve теперь уже означало «остаться без места», а сегодня подразумевает добровольный отказ от работы. Всю эту историю воскресили филологи, но ее не существует для рабочего, просто пользующегося данным словом.