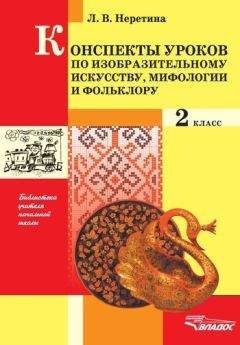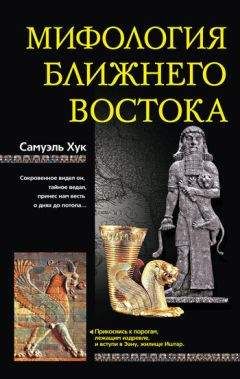Елеазар Мелетинский - Поэтика мифа
Подчеркнем, что после отказа от традиционного сюжета продолжает еще действовать инерция жанровой структуры. В этих рамках следует, например, признать интересной упомянутую выше попытку И. П. Смирнова в статье «От сказки к роману» найти в русской повествовательной традиции, не только в «Повести о Савве Грудцыне», но и в «Капитанской дочке», следы сказочно-мифологической структуры, соотнесенной с инициацией (см. прим. 135). Замена в ходе эволюции одних мотивов другими при известной стойкости структуры приводит к тому, что заменяющие мотивы часто сохраняют функцию заменяемых: например, в натуралистическом романе «темный рок» уступает место биологической наследственности, которая сама выступает в роли рока. Некоторые схемы и ситуации повторяются без всякой мотивировки.
Вопрос об «имплицитном» мифологизме реалистической литературы очень сложен, потому что, во-первых, сознательная установка на отражение действительности и познавательный эффект не исключают использования вместе с традиционной жанровой формой трудноотклеиваемых от этой формы элементов мышления и, во-вторых, совпадающие в романе XIX в. и в архаических традициях элементы не обязательно «пережитки», хотя бы и в юнговском понимании, но, возможно, некие общие формы мысли, переживания, воображения, по отношению к которым мифические образы являются таким же частным вариантом, как и реалистические. Речь опять-таки идет не о редукции (и, следовательно, архаизации реалистической литературы с одновременной модернизацией мифа), а о широком изучении поэтической перцепции.
Приведем еще один, последний, пример. По нашим наблюдениям, в гоголевской модели мира достаточно фундаментальное значение имеет оппозиция юга и севера, которая, например, реализуется как контраст Италии (разрушающейся, провинциальной, но насыщенной красотой, искусством и внутренним теплом) и Парижа (погрязшего в модной суете, буржуазном быте и поверхностном политическом радикализме) или наивно-провинциальной, а вместе с тем яркой по краскам и характерам, патриархальной, сказочной Малороссии и холодного чиновного Петербурга. Тема севера, холода, ветра всячески обыгрывается в петербургских повестях Гоголя, в особенности в «Шинели», где с этим связана основная тема, главная сюжетная «метафора». Встав на ритуально-мифологическую точку зрения, можно было бы увидеть у Гоголя пережиток оппозиций стран света и свойственную большинству мифологий демоническую интерпретацию севера, где находится царство мертвых, обитают злые духи и великаны. Однако, как нам кажется, мы совершим ошибку, если сведем содержание реалистических открытий Гоголя к подобному «пережитку». Эти открытия почерпнуты из самой действительности и имеют резко критический смысл. Вместе с тем можно признать и бессознательное использование Гоголем традиционно-метафорического контраста юга и севера, который еще со времен мифа действительно стал «общим местом» поэтического сознания (ср. символику севера и юга в «Страннике» Гёльдерлина и др.).
Что касается романтических течений (включая собственно романтизм начала XIX в., неоромантизм и символизм конца XIX – начала XX в.), то они находятся на той же самой дистанции от традиционных жанровых форм и мифологических сюжетов, что и реализм. Однако отношение к мифологии, у них не негативное, как у писателей-реалистов, а, скорее, позитивное, иногда даже восторженное.
Немецкие романтики видели в мифе идеальное искусство (см., например, выше, стр. 18 о Шеллинге) и ставили задачу создания новой, художественной, мифологии, которая бы выразила глубокое единство, исконное тождество природы и человеческого духа, природы и истории. В этом плане доктрина немецкого романтизма резко противостояла представлению классицизма об окончательном подчинении природы цивилизацией.
Программа создания новой мифологии впервые была сформулирована Фридрихом Шлегелем в 1800 г. в «Речи о мифологии». Мифология, по Шлегелю, символически выражает окружающую природу, освещенную фантазией и любовью, и исходит не столько из чувственно воспринимаемого мира, сколько из глубин духа. В качестве идеальной мифологии как некоего центра, вокруг которого формируется поэзия, в принципе стремящаяся к бесконечности, немецкие романтики, вслед за немецким классицизмом конца XVIII в., но на свой лад, возвеличивали греческую мифологию. Отчасти под влиянием Шлейермахера с его пантеистическим восприятием христианства Шлегель и другие обратились к средневековому католичеству, стремясь в своей новой мифологии синтезировать «чувственность» античного язычества и «духовность» христианства. Некоторые элементы этого синтеза получили дополнительную окраску, идущую от увлечения натурфилософским мистицизмом Бёме. Новая мифология немецких романтиков постоянно колебалась между сказочностью (следствие принципиального эстетизма в восприятии мифа) и мистицизмом.
Немецкие романтики чрезвычайно свободно обращались с сюжетами и образами традиционных мифологий, используя их как материал для самостоятельного художественного мифологизирования. Гёльдерлин включает в число олимпийских богов Землю, Гелиоса, Аполлона, Диониса, а верховным богом у него оказывается Эфир. В «Смерти Эмпедокла» Христос сближается с Дионисом (но крен – в сторону романтического эллинизма), смерть философа Эмпедокла, добровольно бросающегося в кратер Этны, чтобы раствориться в природе, стать бессмертным и искупить свою «вину» перед природой, трактована и как циклическое обновление (смерть – омоложение) умирающего и воскресающего природного божества, и одновременно как мучительная крестная смерть побитого камнями пророка. В поэме Гёльдерлина «Единственный» Христос – сын Зевса, брат Геракла и Диониса. Клейст в «Амфитрионе», как справедливо отметил Н. Я. Берковский, с помощью мотива Геракла, рожденного Алкменой, превращает мольеровскии фарс, из которого он исходил, в мистерию богочеловека[154] (Адам Мюллер сравнивал Геракла и Алкмену с Христом и Марией). В «Генофефе», «Октавиане», «Магелоне» Тика образы христианской и языческой мифологии переплетены со сказочными и легендарными. У Новалиса в «Генрихе фон Офтердингене» в сказке-мифе, рассказанном Клингзором, всеобщая злая околдованность природы и человека прекращаются, благодаря тому что Эрос и Фабель (басня) будят душу мира Фрейю, что должно растопить ледяное царство Арктура. Мифологическая фантазия Новалиса объединяет греческого Эроса и древнегерманскую Фрейю в едином причудливом сюжете, служащем аллегорией его натурфилософских мечтаний. Сходная вставная сказка-миф в «Принцессе Брамбилле» Гофмана, трактующая тему отпадения человека от природы и последующего восстановления исконной связи, свободно использует и деформирует некоторые образы и ситуации скандинавской мифологии (Урдар источник, мудрец Гермод, напоминающий Одина, и т. п.), соединяя их с плодами собственной фантазии. Натурфилософские взгляды романтиков (в особенности с включением мистического учения Бёме) способствовали обращению к низшей мифологии, к различным категориям природных духов земли, воздуха, воды, леса и гор, сильфид, русалок, ундин, саламандр, гномов и т. п. Именно здесь – важнейший исходный пункт фантастики Фуке, Гофмана, Тика. Арним проявил особый интерес к фольклорно-мифологическим образам полуискусственных человечков, созданных на грани «природы» и «культуры», альрауну и голему (ср. гомункулюс во второй части «Фауста» Гёте). Арнимовский альраун из повести «Изабелла Египетская»,-несомненно, был одним из источников оригинального «Крошки Цахеса» Гофмана. Таким образом, подчеркнуто свободная, порой ироническая игра с образами традиционной мифологии, объединение элементов различных мифологий и в особенности опыты собственной литературной мифоподобной фантастики – характерная черта мифотворчества немецких романтиков.
Мифологические образы используются романтиками в отличие от классиков не в качестве условного поэтического языка. Мифологическая или квазимифологическая фантастика помогает романтикам создать атмосферу таинственного, причудливого, чудесного, трансцендентного и противопоставить ее жизненной реальности как высшую поэзию низменной прозе или как область демонических влияний, исподволь определяющих судьбы людей, как борьбу светлых и темных сил, стоящих за видимыми жизненными коллизиями. Вершиной романтического мифологизирования является мифологизация самой буржуазной «прозы».
Мы не можем в рамках настоящей книги рассматривать сколько-нибудь основательно сложную проблему мифологизма романтиков, хотя бы только немецких. Отсылаем читателей к очень обширной и содержательной монографии Ф. Штриха «Мифология в немецкой литературе от Клопштока до Вагнера» (1910)[155]. Здесь же мы в качестве примера лишь весьма кратко остановимся на творчестве Гофмана, интересного как раз своими опытами мифологизации жизненной прозы.