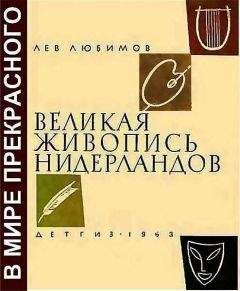Людмила Черная - Антропологический код древнерусской культуры
Философско-антропологический подход позволяет посмотреть на проблему соотношения чина, канона и стиля по-своему. Канон необходимо подразделять на идеологический и изобразительный. Первый доминирует в культурах, вошедших в фазу теоцентризма, когда канон выражает принцип старины, принимается за раз и навсегда данную истину и олицетворяет идею развития как движения вспять, к утрачиваемому идеалу. Идеологический канон мешает осмыслению традиции как преемственного движения культуры вперед, так как истина единична, скрыта в прошлом, покоится в пласте вечного времени и лишена времени мимотекущего. Всякое новшество приравнивается к повреждению старины как разрушение канона, принявшего в русской культуре форму чина.
Художественный канон следует за идеологическим, но далеко не всегда они сосуществуют единовременно. Эстетическая самоценность изобразительного канона делает его неуязвимым до тех пор, пока не сформируется новый стиль, перетекающий на теоцентрическом этапе развития культуры в канон. Следует согласиться с выводами искусствоведов, что иконографический канон, понимаемый как свод правил и запрещений, спускаемых художникам церковными и светскими властями, никогда не существовал в древнерусском искусстве. Действительно, «канона в таком понимании средневековая живопись не знает. Под этим термином соединяют результаты двух разнородных явлений – желание иконописца сделать свой образ узнаваемым… и его привычки работать по образцу».[523] Но если привычка работать по образцу шла от непрофессионализма русских художников, то указание писать только с образцов, которое содержал Стоглав, несет в себе уже элемент диктата.
Стиль, трактуемый и как стиль эпохи, и как индивидуальный стиль – явление слишком «мимотекущее», исторически связанное с определенным временем и его содержанием, чтобы соперничать с вечностью канона. Поэтому в поздней средневековой культуре стиль присутствует как бы нелегально, неосознанно, подправляя канон применительно к изменяющейся жизни исподволь и осторожно. Таковы, на наш взгляд, стили древнерусской литературы, предложенные Д. С. Лихачевым и приложенные Г. К. Вагнером к древнерусскому искусству: «стиль монументального историзма» XI–XIII вв., «эмоционально-экспрессивный стиль» конца XIV – начала XV вв., стиль «психологической умиротворенности» Андрея Рублева и его школы; стиль «ложного монументализма» XVI в.[524]
Древнерусский «чин» как бы аккумулировал в себе и идеологическую, и художественную функции канона. Он давал закрепленный образец благого и прекрасного, что выражалось в соответствующих оценках: благочинный, благочестивый, благолепный и т. п. Везде благо стояло на первом месте, а красота на втором. Создание системы чинов-образцов замыкало русскую культуру в круг готовых форм, которые можно и нужно было только повторять. Попытки идти дальше приравнивались к самочинию и преследовались.
Влияние, которое оказывал закон чина на культуру позднего средневековья, прослеживается по многочисленным источникам из разных сфер. В литературе, по наблюдениям специалистов, из-за несоответствия чину в XVI в. исчезли списки светских беллетристических произведений, ходивших по Руси в предыдущем столетии. Теперь их просто не переписывали, боясь нарушить чин. Традиционные же произведения, в частности жития святых, приводились в соответствие с агиографическим чином, что хорошо осознавалось и самими авторами. Пожалуй, наиболее ярким примером может служить обработка в XVI в. Жития Михаила Клопского. Созданное в Новгороде в XV в. житие юродивого Михаила (бывшего, по предположению В. Л. Янина, сыном Дмитрия Боброка-Волынца, героя Куликовской битвы, и сестры Дмитрия Донского Анны Ивановны[525]) было нетипичным памятником агиографии, написанным простым народным языком с поговорками, без риторических вступления и заключения, без биографии святого, но с рассказами о быте Троицкого монастыря и т. п. Это несоответствие житийному жанру было ликвидировано в так называемой Тучковской редакции, созданной Василием Михайловичем Тучковым в 1537 г. Образованный боярин, общавшийся с Максимом Греком и свидетельствовавший против него на суде, Тучков, по мнению современников, делал все по чину: «Сей же вышереченный Василей, по благословению преосвященнаго архиепископа Макария, ветхая понови и распространи явление, житие и чюдеса преподобнаго, и все по чину постави (выделено мною. – Л. Ч.) и велми чюдно изложи».[526] Что же стояло за этим «по чину»? Тучков сделал большое риторическое вступление, пышную заключительную похвалу, добавил четыре чуда к единственному, уже существовавшему. Таким образом, чин житийной литературы тяготел к перегруженности, пышности, т. е. ложному монументализму в ущерб исторической правдивости рассказа.
Особенно подробно был разработан чин иконописца, вероятно, в силу того, что русское богословие было «умозрением в красках».[527] Иосиф Волоцкий сравнивал иконописца с книгописцем: «…ибо словописець написа Евангелие и в нем написа все, плоти смотрение Христово и предаде церкви, подобнее и живописець творит, написав на дсце все плотское Христово смотрение и предаст церкви, и еже Евангелие словом повествует, сие живописание делом исполняет».[528] Требования к иконописцу были оформлены в Главе 43 Стоглавого собора «О живописцех и честных иконах».[529] Отвечая на вопрос: «каким подобает живописцем быти и тщание имети о начертании плотскаго воображения…» – Стоглав гласит: «Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейну, непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, неграбежнику, неубийцы. Наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со всяцем опасением, не могущим же тако до конца пребыти, по закону женитися и браком сочетатися, и приходити ко отцем духовным начасте и во всем извещатися и по их наказанию и учению житии в посте и в молитве, и в воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякаго зазора и безчинства…»[314]. И только затем текст касается живописи:
«…и с превеликим тщанием писати и воображати Иисуса Христа и пречистую его Богоматерь, и святых небесных сил, и святых пророк и апостол, и священномученик и святых мучениц, и преподобных жен и святителей и преподобных отец по образу и подобию и по существу, смотря на образ древних живописцов и знаменовати с добрых образцов» [314]. Мы видим, что иконописание приравнивается особому виду «угождения» Богу, от иконописца требуется прежде всего соответствующее состояние души, постоянная работа над ней путем молитвы и поста как результативного способа подавления плоти и плотских греховных желаний. Отсюда занятия иконописью берут на себя чаще всего монахи или представители белого духовенства. Стоглав прямо указывает, что перечисленные требования соответствуют монашескому служению, но допускается и пребывание художника в миру под постоянным контролем духовного отца. Специально предостерегаются иконописцы от совершения чего-либо «безчинного», поскольку основным требованием к христианину, как уже отмечалось, в это время было требование жить «по чину», т. е. в соответствии и с социальным статусом, и с религиозными нормами и церковными установлениями, и с древнерусским менталитетом в целом. Соответственно, властью и обществом ценились праведно живущие художники, которых следовало царю жаловати (отсюда жалованные иконописцы), а церковным властям «бречи и почитати паче простых человек» [315].
Важен также вопрос об учениках художника, которому в статье Стоглава отводится очень много места. Уведав, что «открыет Бог таковое рукоделие» [315], т. е. талант живописца, мастер должен привести ученика к святителю на освидетельствование: «аще будет написанное от ученика по образу и подобию и увесть известно о житии его, еже в чистоте и благочестии по заповедем живет кроме всякаго безчинства, абие благословив наказует его и впредь благочестно житии и святаго онаго дела держатися со усердием всяцем» [315]. При этом священнослужитель должен следить, чтобы мастер не продвигал своих, не способных к данному искусству сыновей или родственников, или не выдавал чужие работы за их «рукоделие». Обнаружив обман, святитель должен наказать мастера, чтобы другие имели «страх» и не дерзали делать подобное, а неудачливому ученику запретить писать иконы. Видимо, ориентируясь на реальные случаи из жизни, составители Стоглава сделали предостережение мастерам не скрывать «по зависти» талантливых учеников, «дабы не приял чести, якоже он (мастер. – Л. Ч.) прият», потому что при разоблачении мастер будет под запрещением, а ученик «емлет вяшщую честь» [315]. Оговариваются и случаи сокрытия своих знаний и умений учителем от учеников – «и учеником того по существу не отдаст» – за что «таковой осужден будет от Бога с сокрывшим талант в муку вечную» [315]. Таким образом, перед мастером ставилась задача не только добросовестно обучать ремеслу и правильному образу жизни, но и продвигать талантливых учеников. В противном случае он попадает или под святительское запрещение, или готовит себя «в муку вечную» [315]. Особо оговаривается и нарушение второй составляющей живописца – благочестивой жизни: «учнет жити не по правильному завещанию во пьянстве и нечистоте и во всяком безчинстве (выделено мною. – Л. Ч.)» – его отлучают от иконного дела, будь то мастер или ученик, «боящееся словеси реченнаго: проклят творяй дело Божие с небрежением» [315].