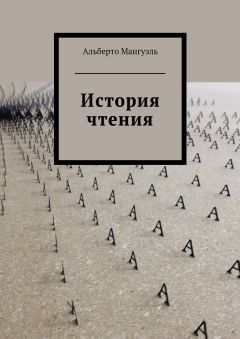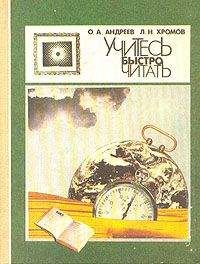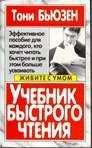Человек читающий. Значение книги для нашего существования - Хисген Рюд
В 1927 году фотограф из Гааги Густав Х. купил себе первый автомобиль. Садясь за руль, неискушенный водитель с торжествующим видом попрощался с семьей, будто отправляясь в кругосветное путешествие. Личный автомобиль сулил ему массу преимуществ, позволяя, например, легко и быстро перевозить крупноформатную фотокамеру с фокусирующим мехом. Возможно, в будущем он планировал семейные поездки, не задумываясь при этом о возможных дорожных проблемах. Понимание того, что транспортное средство способно причинить неудобство, пришло к нему лишь тогда, когда новехонький автомобиль, неожиданно потеряв управление, съехал с трассы и резко остановился. Этот первый дорожный инцидент касался исключительно Густава Х.: предвидеть социальные последствия безудержного роста автомобилей ему тогда еще было не под силу.
Все мы давно привыкли к автомобилям. Современное общество ориентировано на их использование. Автомобили, как и ожидалось, дали нам безграничную свободу передвижения, но, с другой стороны, неожиданно привели к таким последствиям, как загрязнение воздуха, пробки и смертность на дорогах. И вот мы, подобно Густаву Х., счастливо-беспечно мчимся теперь уже по цифровому шоссе, имея крайне смутное представление о том, что предвещают нам новые технологии. Как любая инновация, они призваны облегчить жизнь и сделать нашу деятельность еще более плодотворной и результативной. При этом мы снова закрываем глаза на неизбежность непредвиденных — и зачастую вовсе нежелательных — последствий этих технологий.
Печатный станок Гутенберга, без сомнения, упростил и ускорил распространение Библии. В этом и заключался смысл проекта Гутенберга. Однако Гутенбергу было невдомек, что его печатный станок создаст предпосылки для Реформации. Подобная мысль никому не приходила в голову. Вспомним, что даже аббат Иоганн Тритемий{71}, выступавший в своем сочинении «De laude scriptorum manualium» («Во славу переписчиков») 1492 года против печатного станка, не продвинулся в своей аргументации дальше опустошения скрипториев и последствий этого опустошения для благочестия монахов — слуг Божьих.
Вот и сегодня мы едва ли считаемся с последствиями цифровых технологий для наших когнитивных способностей и функционирования общества в целом. Неосознанно прощаясь с привычной жизнью, в которой книга занимала центральное место, мы слепо несемся вперед по цифровому шоссе, наслаждаясь открывающимися перед нами восхитительными перспективами. Никогда прежде доступ к знаниям не был таким широким и беспрепятственным. Беспрецедентное число людей умеют читать и писать. Мы с легкостью выражаем свои мысли и мнения, быстро и с удовольствием обмениваясь ими с окружающими. О каких же непредвиденных последствиях идет речь? Давайте попробуем разобраться.
Одновременно с использованием цифрового текста на экране появляются альтернативные формы коммуникации (например, аудио и видео) для распространения тех же (или примерно тех же) сообщений на том же самом экране. Эти альтернативы предъявляют менее высокие требования к нашим когнитивным навыкам. Ведь совсем не обязательно уметь читать, чтобы слушать аудио или смотреть видео. Менее образованные люди легче поддаются соблазну заменить чтение чем-то более легковесным, что приводит к растущему разрыву между начитанными и малограмотными.
В связи с этим стоит рассмотреть одно устойчивое заблуждение. Упрощая задачи и оптимизируя процессы, цифровые технологии порождают ожидания того, что они способны облегчить и само чтение. В том числе и по этой причине многие продолжают верить в необходимость внедрения (прежде всего в образование) большего объема цифровых технологий. Тем не менее когда речь заходит о понимании содержания, то упрощение чтения оказывается невыполнимой задачей. Вниматель-ное прочтение и понимание текста, независимо от чьего-либо желания, всегда будет сопряжено с серьезными умственными усилиями.
Экраны вызывают своего рода коллективный синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Что представляет собой системную, социальную проблему. Следовательно, обвинять людей в том, что они недостаточно читают, по существу, бесполезно, да и кампании по поощрению чтения направлены не на ту целевую аудиторию. Чтобы создать более благоприятные условия для чтения, необходима политическая воля. А политическая воля может проявиться только тогда, когда будет четко очерчена суть проблемы.
Технологические инновации не терпят промедлений. Современные луддиты, полагающие, что технологические нововведения не приносят пользы ни обществу, ни индивиду, подвергаются насмешкам. Большинство людей с ними не согласны: любопытные по натуре, они признают, что невозможно расширить горизонт знаний, если всякий раз действовать осторожно. Недаром девиз компании Марка Цукерберга звучал так: «Move Fast and Break Things»{72}. В каких-то случаях мы проявляем более серьезную готовность оценить риски. Выпуск новых лекарств, к примеру, строго регулируется. Ну да, думаем мы, какой-такой вред технологии могут нанести чтению? Больший, чем может показаться на первый взгляд.
Не все непредвиденные побочные эффекты технологий оказались для нас неблагоприятными. Чтение, и в первую очередь чтение книг, укрепляет ментальную дисциплину и силу мышления, расширяет словарный запас, формирует абстрактное мышление и навыки аргументации, развивает чувствительность к другим культурам, а также терпимость и эмпатию. Тем обиднее, что дигитализация, похоже, отрицательно сказывается именно на этих непреднамеренных, но столь плодотворных побочных эффектах.
Мы выяснили, что бумажная книга превосхо-дит цифровой текст как интеллектуальная или мыслительная технология. Книга предлагает вдохновенную иммерсивную среду для взаимодействия с текстом без отвлекающих факторов, стимулируя чтение длинных текстов-рассуждений от начала до конца и, следовательно, их понимание и анализ. Подобное вдумчивое чтение, оттачивающее наш разум, неотделимо от демократического и научного подхода.
Вдумчивое чтение не обязательно делает нас лучше. Тем не менее благодаря использованию книжной технологии вдумчивое чтение сформировало наше мышление. И наше общество. Поэтому, если мы хотим сохранить это общество, необходимо задуматься о будущем вдумчивого чтения — и, следовательно, о работе с технологиями. Следующий вопрос: что мы можем сделать прямо сейчас? «Сосредоточьтесь на том, что вы читаете, — пишет американская исследовательница чтения Наоми Барон. — Будьте терпеливы, дисциплинированны и внимательны, читая сложный текст. В противном случае молодые люди лишаются возможности стать серьезными и деятельными участниками жизни общества»[243]. Так оно, вероятно, и есть, но как сделать так, чтобы молодежь не только получила эту возможность, но и воспользовалась ею? Многие утверждают, что книга никуда не денется, поскольку в обществе останется потребность в длинноформатных текстах. Благая мысль, но не чересчур ли она оптимистична? Мы уже установили, что интенсивное, вдумчивое чтение длинных текстов находится под угрозой, как бы мы ни превозносили его полезность и необходимость.
Нужно ли «спасать» вдумчивое чтение? Здесь представляются вероятными два сценария. Во-первых, можно интерпретировать это «спасение» как консервативную, обреченную на провал попытку остановить культурную эволюцию и ответить на заданный вопрос отрицательно. Сидеть сложа руки, как известно, тоже выбор, а именно в пользу того, чтобы технологии диктовали повестку дня. Приходят на память выразительные слова Стива Джобса (в ответ на вопрос журналиста, сколько маркетинговых исследований было проведено перед выпуском iPad): «Потребители не знают, чего они хотят, пока мы им не покажем этого»[244].
Подобная перспектива выглядит не слишком радужно. Одно лишь понимание того, что доминирующие, то есть цифровые, медиа всегда нацелены на получение экономической прибыли, уже должно вызывать у нас обеспокоенность. Но даже если ограничиться устойчивым снижением показателей вдумчивого чтения, картина нашего будущего выглядит мрачновато.