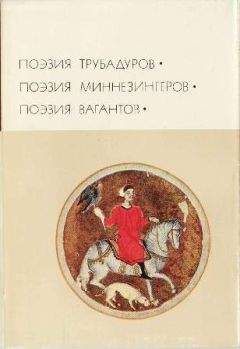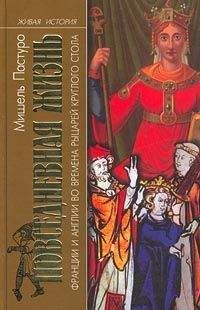Женевьева Брюнель-Лобришон - Повседневная жизнь во времена трубадуров XII—XIII веков
Жизнеописания, с. 119–120
ФЛАМЕНКА * * *(Амор, посетивший Гильема, на время погрузил его в любовное забытье)
Любовь, свой нанеся визит
2170 Гильему, возвращает телу
Рассудок; предается делу
Дневному вновь оно; светло,
Хоть веки смежены, чело
И все лицо, столь ярок пыл
Зари; когда же он открыл
Глаза, сияя, солнце встало.
Гильем прекрасен, щеки алы.
Из мест, где был, выходит он,
Как будто удовлетворен,
2180 Что отдохнул, трудом тяжелым
Измучившись, и встал веселым.
Слуга так плакал, что потоки
Слез замочили лоб и щеки
Гильемовы. «Сеньор, вы спали
Так долго, что в большой печали
Я был», — он молвил и утер
Глаза салфеткою. Сеньор
Ему в ответ: «Твоих скорбей
Источник — в радости моей».
2190 Впрямь, то, что в горе ты великом,
Напрасно выражать лишь криком,
Рубаху и штаны Гильем
Надел; на беличью затем
Накидку сел он у окна.
По руку правую стена
Той башни. Смотрит, обуваясь,
Он на нее не отрываясь;
Одет изящно: на ногах
Не башмаки, но в сапогах
2200 Любил ходить он остроносых,
Должно быть, из Дуэ привез их.
Не станет шерстяных чулок
Носить, коль не обтянут ног.
Он ахи испускал и охи
И прибавлял при каждом вздохе:
«Держать ее в плену — злой грех.
О, существо прекрасней всех,
Достоинств редких средоточье.
Не дайте умереть, воочью
2210 Узреть вас перед тем не дав!»
Велит нести кафтан. Стремглав
Бежит за ним слуга, в ком толку
Не на одну б хватило пчелку,
Кто деятельней и живей,
Чем ласочка иль муравей.
Принесен таз с водой. Сперва
Гильем умылся; рукава
Затем пришил изящным швом
Иглой серебряной; потом
2220 Накинул плащ из шерсти черной
И оглядел себя — зазорный
Не мог замечен быть изъян
В наряде тех, кто шел из ванн.
(Гильем вместе с хозяином гостиницы отправляется в церковь)
Тут входит Пейре Ги как раз:
«Сеньор, дай бог, чтоб всякий час
Дня, доброго уже вначале,
Был добр для вас. Вы рано встали!
А мессу между тем поздней
Начнут: быть пожелав на ней,
2230 Опаздывает госпожа».
Гильем ответствует, дрожа:
«Пойдемте лучше прямо в храм
И совершим молитву там,
А после воздухом подышим,
Покуда звона не услышим». —
«Не откажу, — тот молвит, — славный
Сеньор, вам в этом; в мере равной
Во всем, что вам придет на ум».
Гильем хранил в одной из сум
2240 Дорожных новый пояс: в пряжке,
Французской ковки, без натяжки
На марку серебра почти,
Коль на весы ее снести.
На славу пояс был сработан,
Хозяину его дает он.
Тот кланяется куртуазно:
«Сеньор, столь дар несообразно
Богат ваш, помоги мне Бог,
Что буду думать, чем бы мог
2250 Вас отблагодарить: роскошен
Подарок, я им огорошен.
Словно гостинец новогодний,
Он всех полней и превосходней:
С массивной пряжкой вещь из кожи
Ирландской стоит здесь дороже
Любых сокровищ; больше им
Доволен я, чем золотым».
Хозяин был отменных правил,
Женитьбой же себя избавил
2260 Удачно он от всех хлопот
О тех, кто у него живет.
Хоть в монастырь они вдвоем
Идут, но каждый о своем
Задумался: ведь у Гильема
Любовь — единственная тема,
А у другого постоянны
Две темы — прибыли и ванны,
И мысль, что гость принять захочет
Хоть завтра их, его уж точит.
2270 Встал на колени, как вошел
Во храм, Гильем и на престол
Апостола Климента строго
И пылко стал молиться Богу;
Марию-Деву помогать,
Святого Михаила рать
И всех святых усердно молит,
Три раза Отче наш глаголет,
Затем молитовку — творенье
Отшельника — перечисленье
2280 Семидесяти двух имен
Творца, в каких открылся он
Евреям, римлянам и грекам.
Молитва эта человеком
Руководит, любить творца
Настраивая и сердца
Уча добру. Кто с нею дружит,
От Бога милости заслужит;
Для тех немыслим злой конец,
Кто отдает ей пыл сердец
2290 Иль, записав, у сердца носит.
Гильем молитву произносит
И открывает наугад
Псалтырь, и попадает взгляд
На стих знакомый: Возлюбих.
«Бог знает нужды чад своих», —
Шепнув, отводит от страниц
Глаза и опускает ниц.
Затем осматривает храм;
Но он, гадая, где бы там
2300 Сидеть удобно было даме,
Не знал, что помещали в храме
Ее в курятне на запор.
(В храм приходит Фламенка в сопровождении своего ревнивого мужа эн Арчимбаута)
Гильема сердце сильно бьется,
Никак он дамы не дождется.
Он видит в каждой новой тени,
Пересекающей ступени,
Эн Арчимбаута. Люди в храме
Выстраиваются рядами.
Но вот вся паства подошла
И третьи бьют колокола,
2440 И тут-то после всех возник
В дверях безумец, видом дик,
В щетине, ряжен как попало,
Рогатины недоставало,
Чтоб стал он чучелом вполне,
Какое ставят на холме
Крестьяне против кабанов.
И рядом с тем, чей вид таков,
Красавица Фламенка шла,
Хоть сторонилась, как могла,
2450 Настолько был ей гадок он,
Вот стала на порог — поклон
Отдать смиренный. В этот миг
Гильем Неверский к ней приник
Впервые взором — хоть плохая
Была возможность; не мигая,
В томленье, на судьбу в обиде,
Вздыхал он, черт ее не видя.
Но тут Амор шепнул: «Ее
Спасти — намеренье мое.
2460 Но покажи и ты свой норов,
Однако не бросая взоров,
Чтоб не заметил кто-нибудь.
Я научу, как обмануть
Ревнивца так, чтоб проклял он
Тот день, когда на свет рожден.
И за вуаль, и за тебя
Я отомщу». Гильем, скорбя,
Поскольку дама в то мгновенье
Зашла в закут, стал на колени.
2470 Священник начал Окропи мя,
Гильем, призвав Господне имя,
Прочел весь стих; клянусь, доселе
Здесь ни читали так, ни пели.
Священник с клироса к народу
Сошел, ему крестьянин воду
Свяченую принес, и он
Направо двинулся, в загон
Эн Арчимбаута. Пеньем всем
Вдвоем с хозяином Гильем
2480 Руководил; но были зорки
Его глаза, и вид каморки
Сквозь узкий ход ему открыт.
Иссопом капеллан кропит,
Лия подсоленную влагу
Фламенке на голову, благо
Открыла волосы сеньора,
Чтоб омочить их, до пробора;
И кожа у нее была
Нежна, ухожена, бела.
2490 Горели волосы светло,
Поскольку в этот миг взошло
Любезно солнце и по даме
Скользнуло беглыми лучами.
Гильем, хотя узрел лишь малость
Сокровища — Амора шалость, —
Возликовал в душе, столь славен
Был signum salutis[310] и явен.
Фламенка, с. 70–72,72—75,79–80
ПЕСНЬ О КРЕСТОВОМ ПОХОДЕ ПРОТИВ АЛЬБИГОЙЦЕВ
Мои сеньоры! Эта песнь писалась для людей…
Живой александрийский стих был образцом для ней,
Чтоб мог ее пересказать сказитель-грамотей.
Начнем же. Ересь поднялась, как гад со дна морей
(Господь ее да поразит десницею своей!),
Попал весь Альбигойский край в охват ее когтей —
И Каркассонн, и Лорагэ. Легли по шири всей —
От стен Безье до стен Бордо — следы ее путей!
К неложно верящим она пристала как репей,
И были там — я не совру — все под ее пятой.
Сам папа римский сник от бед и потерял покой,
И весь его богатый клир охвачен был тоской,
Ведь ересь с каждым днем росла, являя облик свой.
Немало пастырей святых отправилось на бой
С Великой ересью! И все пошли туда толпой…
Цистерцианский орден был там первой головой.
Там проповедовал Осма (старик, прелат святой),
А супротив болгарин был, поклонник веры злой,
На каркассоннских площадях перед толпой людской.
Из Арагона сам король там был со свитой всей,
Но удалился он, едва почуял смысл речей,
И о коснеющих во лжи, узнал он гонор чей,
Послал в Ломбардию письмо — в Рим, для святых властей.
Скажу, коль Бог благословит, что эти люди злей,
Чем яблоко грызущий червь, гнилых плодов гнилей,
Ведь слышим мы уже пять лет их непотребный лай.
Совсем у Господа от рук отбился этот край!
Чем в схватке яростней глупцы, тем ближе бездны край,
Ведь им, пока идет война, не будет, так и знай,
Пощады на земле.
Аббат цистерцианцев (тот, кого Господь любил),
Носивший имя брат Арнаут, опорой братьям был
(Тем, что отправились пешком или на мулах пыл
Сбивать с упорствующих в лжи и с тех, кто в ересь впал).
Но хоть словами каждый брат упрямцев побивал,
Сей люд свою неправоту ни в чем не признавал!
Пейре де Кастельно тогда Господень путь привел
В Прованс, где он своим трудам последний счет расчел
С Тулузским графом и того от Церкви отлучил,
Ведь граф соседей разорял и грабежи чинил.
Но графский конюший один все в темноте бродил
И, сердцем злобу возлюбя, от графа милость ждал.
Он свой предательский кинжал прелату в бок всадил,
Убил де Кастельно, затем, дурных наделав дел,
Избрал убежищем Бокэр, лен графа и удел.
Но перед смертью к небесам всё руки возводил
Благочестивый Кастельно и Господа просил,
Чтоб неразумному слуге тот смертный грех простил;
И перед Богом и людьми убийство отпустил.
Он причастился, лишь петух вновь утро возвестил;
Его душа слетела с уст, лишь край небес зардел, —
И всемогущий наш Господь ее в раю призрел.
Над мертвым телом в Сен-Жиле всю ночь огонь горел,
И на святых похоронах весь клир молитвы пел.
Когда известье, что легат заколот, в Рим пришло,
То папа чуть не умер сам, узнав про это зло,
Печаль, испытанную им, представить тяжело.
К святому Якову воззвал, оставив все дела,
Святейший папа — и к Петру, чья в раке плоть была, —
И для анафемы свечу возжег, взяв со стола.
Цистерцианец брат Арнаут, чье сердце горе жгло,
Там был, а также латинист и клирик мэтр Мило,
Двенадцать кардиналов вкруг, склонив в тоске чело.
Там и подписан был указ, на деле злой зело,
По коему людей, что кур, взрезали на земле —
И знатных девушек, и дам! Уж не найти в золе
От них ни юбки, ни плаща, ни броши, ни колье
От стен далекого Бордо до башен Монпелье,
Поскольку папа приказал те земли сжечь дотла.
Вот так об этом рассказал магистр Понс де Мила,
Которого послал король, властитель Тюдела,
Сеньор Памплоны, господин и в замке Эстелла,
И лучший рыцарь среди всех, садившихся в седло.
Что знал султан Мирамелис, коли на то пошло!
Альфонс и Педро, короли, поправ врагов тела,
Сломали копий без числа, за что им и хвала;
О том еще я напишу, взяв, коль пошли дела,
Получше пергамен.
Когда, потупив взор, аббат Арнаут с колен
Поднялся после всех и встал возле колонн,
Он рек такую речь: «Будь благ, святой Мартин!
Живущим на земле ты, папа, господин…
Пошли скорей приказ на языке латин,
Чтоб с ним и я бы мог уйти от этих стен
В Гасконь и Перигор, Овернь и Лимузен,
И славный Иль-де-Франс, сам королевский лен,
Поскольку время мстить, поставив злу заслон.
Пускай ничьей души не тронет вражий стон
От той земли до той, где правил Константин.
А если в ратный строй не встанет паладин,
На скатерти он есть не будет и в помин,
Ни пробовать вина, ни одеваться в лён,
И гроб его вовек не будет освящен».
И согласились все с тем, что промолвил он,
Советчик умудренный.
Под праздник, что дарует нам святая Магдалина,
Войсками, что привел аббат, была полна долина
У стен Безье и вдоль реки с ее песчаным лоном.
Зашлись сердца у горожан, к тому досель не склонных,
Ведь в годы древних битв и свар, чему виной — Елена,
Такого войска Менелай не собирал в Микенах,
Столь пышной знати не могла иметь ничья корона
Кроме французской, не нашлось ни одного барона,
Кто б здесь не пробыл сорок дней (лишь кроме графа Брена).
Удар судьбы для горожан был словно в сердце рана,
Лишились разума они, столь поступая странно.
Кто им советовал? Кому вручили жизнь мужланы?
Бедняги были, видит Бог, глупы определенно
И не разумнее Кита, в чьем чреве плыл Иона,
Пошли на вылазку они, держась такого плана:
На пики вздернув белый холст, как белый флаг, смутьяны,
Горланя, мчались на войска. Так от межи овсяной
Гоняют птиц, пугая их маханьем тряпки рваной
При свете утренней зари.
Встав поутру, вожак всех слуг себе сказал: «Смотри!»
Как раз напали на войска, горланя, бунтари,
И в ров барона одного, обсев, как детвора,
Всем скопом сбросили с моста, отважны несдобра.
Вожак собрал своих людей, босых по той поре.
«Пойдем на штурм!» — вскричали те, собравшись на бугре.
Потом готовиться пошли подраться мастера.
Я полагаю, не имел никто и топора:
Босыми шли они сюда от своего двора,
Пятнадцать тысяч было их — и вор был на воре!
Пошла на город рать в штанах с дырою на дыре,
С собою лишь дубинки взяв да палки поострей,
Одни устроили подкоп, другие — голь храбра! —
Ворота начали ломать, затеяв бой с утра.
Всех горожан прошиб озноб, хоть и была жара.
Кричала чернь: «Идем на штурм! Оружие бери!»
Была такая кутерьма часа два или три.
Ушли защитники в собор и спрятались внутри,
Детей и женщин увели, укрыв за алтари,
И стали бить в колокола, как будто им пора
Звонить за упокой.
Безьерцы видели со стен весь лагерь боевой
И чернь, к воротам городским валившую толпой,
Бесстрашно прыгавшую в рвы, потом под ор и вой
Долбившую дыру в стене, рискуя головой.
Когда же зазвучал сигнал к атаке войсковой,
Заговорило сердце в них, что час настал лихой.
К собору бросились они, всех ближних взяв с собой,
Прелаты, в ризы облачась, пошли за аналой,
И звонам к мессе звонари такой придали строй,
Как будто, плача о родных, оделся в траур край,
Ведь знали все: пришла беда, ворота отворяй.
Безьерцы думали, что их укроет кров святой
От черни, грабившей дома, пустившейся в разбой,
Ведь утварью семи домов мог овладеть любой.
Но чернь, зверея от резни, кроя на свой покрой,
Без счета погубила душ, заполнив ад и рай,
Был ей доступен каждый дом, какой ни выбирай,
И стал бы Крезом каждый вор, что в драке храбр порой,
Когда в руках бы удержал все, что набрал горой.
Но все себе забрала знать, под полог тьмы ночной
Слуг выгнав из-под крыш.
Вся знать из Франции самой, оттуда, где Париж,
И те, кто служит королю, и те, кто к папе вхож,
Решили: каждый городок, где угнездилась Ложь,
Любой, который ни возьми, сказать короче, сплошь,
На милость должен сдаться им без промедленья; те ж
Навек закаются дерзить, чья кровь зальет мятеж.
Всех, кто услышит эту весть, тотчас охватит дрожь,
И не останется у них упорства ни на грош.
Так сдались Монреаль, Фанжо и остальные тож!
Ведь силой взять, я вам клянусь, Альби, Тулузу, Ош
Вовек французы не смогли б, когда бы на правеж
Они не отдали Безье, хоть путь сей не хорош.
Во гневе рыцари Креста велели черни: «Режь!» —
И слуг никто не удержал, ни Бог, ни веры страж.
Алтарь безьерцев уберег не больше, чем шалаш,
Ни свод церковный их не спас, ни крест, ни отче наш.
Чернь не щадила никого, в детей вонзала нож,
Да примет Бог те души в рай, коль милосерд к ним все ж!
Столь дикой бойни и резни в преданьях не найдешь,
Не ждали, думаю, того от христианских душ.
Пьяна от крови, чернь в домах устроила грабеж
И веселилась, отхватив себе изрядный куш.
Но знать воришек и бродяг изгнала вон, к тому ж
Ни с чем оставив босяков и в кровь избив невеж,
Чтоб кров добыть для лошадей и разместить фураж.
Лишь к сильным мир сей благ.
Сперва решили босяки, чернь и ее вожак,
Что век им горя не видать, что стал богатым всяк,
Когда ж остались без гроша, они вскричали так:
«Огня, огня!» — ведь зол на всех обманутый дурак.
Они солому принесли, сложив костры вокруг,
И разом вспыхнул город весь от этих грязных рук,
И шел огонь во все концы, сжимая страшный круг.
Вот так когда-то сам Камбрэ богатый город сжег
И хуже сделать сгоряча, я вам скажу, не мог,
За что его бранила мать, а он, себе не друг,
Ей чуть пощечину не дал, как бьют в досаде слуг.
Вся рать, спасаясь от огня, бежала в дол и лог,
Французской знати не пошла ее победа впрок,
Ведь все пришлось оставить им, а был там не пустяк.
Все, чем богат подлунный мир — и Запад, и Восток! —
Вы там смогли бы отыскать, не будь пожар жесток.
Собор, что строил мэтр Жерве, уж верно, долгий срок,
Внезапно треснул, что каштан, который жар допек,
Лишь камни собирай.
По мненью тех, кто там бывал, в Безье был сущий рай,
Французы всякого добра нашли там через край,
И столько взяли бы с собой, что хоть из рук бросай,
Когда б не предводитель слуг, не сброд его босой.
Но те Безье сожгли дотла, дома, собор святой,
Церковный хор, что мессы пел, и женщин, и детей,
Прелатов в ризах дорогих и остальных людей.
Король встал первым, ведь с людьми он говорить умел.
«Сеньоры, — людям рек король, — граф де Монфор посмел
Наш вызов рыцарский принять, войти в Мюре рискнул.
Так примем меры, чтобы враг от нас не ускользнул!
Еще до ночи грянет бой. Мир злее сеч не знал!
Так бейте ж грозного врага, валите наповал,
Дабы в бою и ваш отряд от вас не отставал,
И час победы над врагом быстрее наставал».
И так сказал Тулузский граф, когда черед настал:
«О сир! Коль вы хотите знать, что скажет Ваш вассал,
То вот что я бы в этот час исполнить приказал.
Не нужно долго говорить, сколь враг свиреп и зол,
Давайте вкруг своих шатров поставим частокол,
Когда бы недруг одолеть преграду захотел,
То стали б воины врага добычей наших стрел
И мы бы гнали остальных по грудам мертвых тел».
«О граф! — воскликнул дон Мигель. — Да кто Вам право дал
Столь сомневаться в короле? Коль скоро миг предстал
Сойтись с врагом лицом к лицу, Господь бы не простил,
Когда б из трусости король победу упустил».
«Что я могу еще сказать? — вновь граф заговорил. —
Когда мы грянем на врага, являя ратный пыл,
Весь мир увидит, кто из нас презренным трусом был!»
«К оружью!» — тут раздался крик. И всяк свой меч схватил;
Бароны шпоры в скакунов вонзили, что есть сил,
Спеша в погоню за врагом, что в город уходил.
Сдается мне, что хитрый враг сию атаку ждал,
Войти в ворота за собой как будто приглашал.
И створ распахнутых ворот сраженью не мешал.
Тот бил противника копьем, тот тяжкий дрот метал;
И с той, и с этой стороны никто не уступал,
Покрылась кровью вся земля и створ ворот стал ал.
Но дело кончилось ничем, никто не победил.
Тулузцы в лагерь отошли. Враг в город отступил.
Настало время отдыхать, баронов зной томил,
Но тут тулузцев граф Монфор в ловушку заманил,
Он повелел седлать коней, к атаке дал сигнал,
И каждый рыцарь скакуна взнуздал и оседлал.
Граф недостаток сил и средств коварством возместил,
Он войско вывел из ворот и с Богом отпустил,
Однако прежде вот о чем баронам возвестил:
«Внемлите, рыцари мои. Враг нас врасплох застал.
Какой могу я дать совет? Ведь я вас всех призвал
Затем, чтоб каждый шел вперед и жизнью рисковал!
Глаз не смыкая ни на миг, я в эту ночь не спал,
О деле думал до зари, до света размышлял,
И вот, сеньоры и друзья, какой я план избрал.
Спешите к лагерю врага, пересекая дол,
Дабы тулузцы, увидав сих копий частокол,
Все разом бросились на вас, ища себе похвал,
И будь что будет, а не то для нас весь край пропал».
«Бароны, надо рисковать, — граф Бодуэн сказал, —
Не тот плох рыцарь, кто в бою на землю мертвым пал,
А тот, что век свой в нищете позорно прозябал!»
Епископ рыцарей Креста на бой благословил,
На три отряда граф де Бар баронов разделил,
Оруженосцев и пажей сеньорам ставя в тыл.
И по тропинке через топь враг тайно поспешил
К палаткам и шатрам.
Враги к палаткам и шатрам пошли по хлябям блат,
Свои знамена развернув, сверкая сталью лат,
И был отделкой золотой украшен каждый щит,
И так сияли те мечи, будто заря горит.
Король, кого за доброту я здесь восславить рад,
Увидев рыцарей Креста, скажу не наугад,
Сам поспешил навстречу им, взяв небольшой отряд.
Толпой валил за королем и весь тулузский люд,
Безумцам детскою игрой казался ратный труд,
Никто не слушался старшин, не знал, что делать тут.
Когда в делах порядка нет, то плох и результат.
Король воскликнул: «Все ко мне!» — но был сметен и смят,
И не нашелся ни один сеньор или солдат,
Кем бы услышан был король и под защиту взят.
Уж ранен доблестный король, уж он в крови лежит,
Та кровь струится по земле и, как ручей, бежит.
У тех, кто видел ту резню, померк от горя взгляд,
Народ решил, что тут виной измена и разлад,
Все в страхе бросились бежать куда глаза глядят,
Никто себя не защищал и не глядел назад,
Бегущих в спину враг разил тем больше во сто крат,
Вплоть до Ривеля шла резня, как люди говорят.
Далмат спасенье от меча искал средь бурных вод.
Он крикнул: «Горе и беда, спасайте свой живот:
Погиб наш доблестный король, опора и оплот,
И пало Рыцарство во прах, как перегнивший плод,
И тех, кого оставил Бог, сегодня гибель ждет».
Когда же реку пересек отважный рыцарь тот,
Тулузцы, рыцари и знать, и весь простой народ
Всем скопом бросились к реке, ища надежный брод.
Счастливец, реку перейдя, тем самым жизнь спасет,
Но многих бурная река в могилу унесет!
Достался рыцарям Креста весь лагерь, скарб и кладь,
И весть по свету разнеслась, что арагонцев рать
Погибла, столько храбрецов, что и не сосчитать,
Досталось воронью.
Перевод со староокситанского И. Белавина