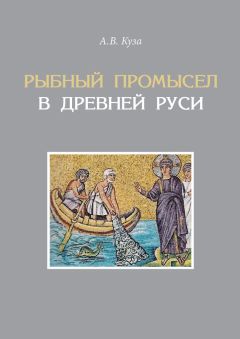С. Максимов - Лесная глушь
— Я бы на твоем месте сам их задирал — не приставали бы; вот Мишутка-то на левый бок щекотлив, Мосейка Старостин не любит, коли обзовешь его, что лукошком месяц в реке ловил; а бабушка вон этого на дединой голове блины с творогом пекла… Дразнил бы ты их, не приставали. Али смирен, по отцу пошел? Тот тоже никого не пугал.
— Эка, Петруха! дело-то твое спорное, а ребята-то все головорезы, шустрые; на язык-то охулки не кладут. Гляди — какие гладыши: отцовы дети. А право бы лучше, коли сам бы ты их ругал!
Но на эти советы Кулачок отчаянно махал рукой и говорил всегда одно и то же:
— Не надо было в овраг ходить, и на улицу выходить не надо. А я смирен — мне не сладить. Пущай лаются — меня не убудет.
На другой раз он так же терпеливо молчал в начале и кидался за толпой в конце; уставал так же, задыхался, бежал в свою избу: ложился на полати и, привыкая спать крепко, привык мало-помалу и к своей роли деревенского потешника, к которой он незаметно и против воли, конечно, приготовил себя, и, смирный человек, — подчинился. Даже сам толковый дядя не мог придумать средств избавить племянника от посмеянья толпы; а сам виновник насмешек, при первом напоре их, терялся вовсе и не находился. Пример подан, а начало выдержано — и ребята не переставали. Привычка — вторая натура, и Кулачок отшучивался и незаметно падал в глазах соседей и мало-помалу упал в собственных глазах.
«Стало, так надо», — думал он про себя.
— Отстаньте, черти, не то палку возьму! — продолжал он говорить другим и бегал за ними, оправдывая себя тем, что играет же взрослый народ в городки и ездит же друг на друге, как малые ребятенки, отчего и ему не поломаться, не порасправить косточек: на то даны сила, досуг и свободный час и ретивая стая ребят-зачинщиков. Иной раз не чувствовал он задору и охоты на шутки и, вследствие того, мог бы превращать — против воли — игру ребят уже в простую драку, платясь собственными боками и спиною, — тогда Кулачку вспоминалась петербургская жизнь, которая подбивала его и брала верх над рассудком.
— Как это ты Бога да честных людей не боишься, Петр Артемьич: опять взялся за старое! — говорил ему немного спустя дядя при всякой встрече и качал головой и охал.
Но Кулачок придумал отпор и отвечал, хладнокровно улыбаясь и махнув рукой, и всегда одно и то же:
— Ох, дядя! Одну выпьешь — боишься; другую выпьешь — боишься, а как третью выпьешь — и не боишься. Нет, уж теперь, что хошь, — ухватился опять за чарку: хоть на цепь сажай — не отстану.
— Да, чадо, глупое детище, пропащим сделаешься!
— Знаю, дядя; не я первой… хмель — продажная дурь, кому надо, тот и покупает. Горю, дядя, народ почету не дает: все глумовством отдает тебе — не приспособишься инако; а так-то легче, совсем легче, и пляшешь… На-ко, какие я песни начал складывать!.. Горе, дядя!..
— Без вина одно, а с вином новых два: и пьян, и бит. Сказывано: одну чарку пей, да к другой не тянись, от третьей беги — не оглядывайся.
— Слыхал, дядя, и эдак. Знаю и так, что взялся за гуж — не толкуй, что не дюж, а по мне, коли пить — так пить, а не пить — так и не начинай вовсе. Такое дело. Отстань — не ругайся! Делал до этого по-твоему, теперь по себе стану! Гляди-ко, какие знатные песни в питейном бурлаки поют да какие и я сам подбирать стал.
— Не надо, не пой у меня, — не такое место. И не ходи ты ко мне, на глаза не кажись.:
Дядя топал ногой и не на шутку сердился.
Кулачок умилялся, по-видимому, и говорил сладеньким, обиженным голосом, вздыхая глубоко и как будто искренно:
— Не трогал я тебя, — почитал… и как есть, значит, холил, уважал, и не заслужил я экой брани. Христос с тобой! Ты первый обидел — ты и ответ дашь. И у всех на обиды один я: шутом стал.
— Дуй все горой; сторонись, душа, — оболью! — кричал он, опрокидывая шкалики в питейном, где играл потом на балалайке, стлался вприсядку и с большим искусством и толком, чем прежде, отличался.
Вскоре ему нипочем было задирать самому и, по свойству разгулявшейся русской натуры, придираться и обижать всякого встречного. Только перед старостой и сотским снимал он шапку и просил извинения и прощения. Перед всеми другими он останавливался и делал возможные упреки, всегда щекотливые и, следовательно, справедливые. Одни из соседей говорили, что он наянлив стал и подучен кем-нибудь; другие, что он парень себе на уме и не так прост, как казался; третьи, наконец, что он просто дурит и додурится до того, что иной рассердится и наломает шею так, что не вспомнится после никакая заноза. Случались с Кулачком и подобные происшествия, но они еще более раздражали его, и он оставался верен своей задаче: для него ничего не стоило разбить стекла у богатели, выпустить у торговцев деготь из бочки, расколотить стеклянную посуду в питейном и сделать другие, еще сильнейшие неистовства. Мир терпел, потому что не было другого исхода. Кулачок плясал и гудел своим разбитым и охриплым голосенком веселые песни на всяком перекрестке и опять по-прежнему продолжал придираться ко всякому встречному, исключая, может быть, одних только собутыльников, но и тех собиралось около него немного.
Озадачивая соседей-мужичков резким покором, Кулачок сделался вскоре, по заслугам и по всем правам, общим посмешищем. Уличные мальчишки встречали его, при первом появлении на селе, радостным криком:
— Кулачок пришел, братцы, вот лихо!
— Кулачок идет с бочонком, песни станет петь — пойдем ускать, пропляшет!
— Дядя Петр, дядя Кулачок! пропой ономняшную-то!
Кулачок ставил бочонок на землю, ловил и щипал ребятишек и — видимо, с большим увлечением — шутил и играл с ними. Переловивши ребятишек, он ставил их в круг, строго приказывал молчать и слушать и гудел любимую песенку: «Ах, в середу было на Масленице, у соборной было дьяконицы, девки пьяны напивалися», — и пр.
При этом он подергивал плечами и повертывал бочонком. На красном лоснящемся лице его, обросшем до густоты новой овчины бородою, прыгала та задушевная и веселая улыбка, от которой до последнего нельзя весело было ребятишкам, хватавшим Кулачка за полы его коротенького кафтанишки.
Наполнивши бочонок вином по заказу соседа, приготовлявшегося к своему храмовому празднику, Кулачок опять встречался с ватагой мальчишек и опять беспрестанно отмахивался от щипков и щекоток, приговаривая:
— Не нужно вас, пострелят, баловать, не нужно! Стегать вас нужно, плетью хлестать. Стыдно старику с младенцами сниматься; прочь, поползни! Прочь, пострелята!
— Ах, в середу было на Масленице… — и прежняя песня при прежнем раскатистом хохоте сельских ребятишек раздавалась потом у сельских бань, резко отзывалась с переливами за крайним овином и наконец глухо замирала во ржи, которая желтым полотном облегала село.
* * *В деревне Судомойке время брало свое: старые лица сменялись новыми. Тот, кто прежде торговал кнутами и дегтем, выехал в село и обзавелся там лавкой красных товаров. Ребята-подростки стали мужиками и обзаводились семьей и хозяйством; выстроилась новая мельница и две-три избы, тоже новых. Тот, кто прежде любил поломаться в чехарду, — важно сидел теперь на завалинке и толковал о разных знамениях; у кого не было и признаков бороды — теперь она выросла с лопату; ребятишки-школьники, валявшиеся прежде на поседках по полатям, — толкались теперь внизу и впереди всех других; кое-кто из них успел заслать сваху, а другие и совсем оженились. Одним словом, перемен в Судомойке произошло много; все они попеременно обращали на себя общее внимание и прошли незамеченными только мимо Кулачка, не затронувши и не задевши его. Для него существовали свои новости, более живые и современные: твердо знал он, что после Матюшки Пегого в сельском питейном пятого целовальника откуп сменил: поверенные обсчитали; уважал более других Матюшку Пегого и до сих пор питал к нему полное уважение и преданность и не любил последнего целовальника.
— Матюшка всем брал: и крупой, и солью. А этот косоглазый черт, кроме одежи, ничего не берет, да и то давай поруку, что твоя-де одежа не краденая!
Знал он также, что если станового детям принести кипу гороху, нащипанного по пути на горошицах, то дадут одну рюмку водки; а если к почтмейстеру принести то же, то можно получить две рюмки водки и пятачок денег в придачу. За репу давал и тот, и другой порцию вдвое; а если спеть детям песенку и проплясать, то и обедом на кухне накормят, и чаю, пожалуй, дадут.
Вследствие подобного рода сделок Кулачок почти совсем переселился было в село, таскаясь из дому в дом, со двора на двор. Только смерть дяди, оставившего некоторую часть наследства в пользу племянника, заставила Петра Артемьева вернуться в родную деревню, которая окончательно привязала его к себе с тех достопамятных пор, когда питейный откуп счел за нужное открыть новый кабак. Выбор, по счастию, пал на Судомойку, и Кулачок на другой же день по открытии поспешил познакомиться с новым лицом и тогда же посоветовал ему завести гармонию и балалайку.