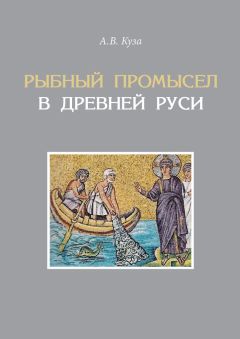С. Максимов - Лесная глушь
— По охоте ли только решился? не так ли, смотри, — сразу взгрептелось: бывает ведь эдак-то…
— У меня — по охоте! Вот взял бы я бабу-то какую да и жил-был бы с ней, коли бы не злющая только попалась; все бы цаловались.
— Ну, да хоть и не все бы цаловались; а в миру с женой жить — чего лучше! Жена, сказано в Писании, великое дело.
— То-то, дядя, смекаю: великое. Муж с женой — это чета… человек да не разлучает! — сказано.
— Так, братец, так — и не инако. Жена — это теперича такое дело, что она завсегда у мужа под началом должна быть. Она — как на избе труба, а ты — как на церкви глава. Надо тебе жениться — что говорить?! Надо хозяйку молодую — хозяйкой дом стоит; опять же и семейная каша погуще кипит.
— Вишь ведь ты, дядя, как толково знаешь это: сказывай-ко дальше, сказывай.
— Выбирай только по сердцу, и живите вволю, а там деритесь, бранитесь — да не расходитесь только.
— Я драться не стану: не такой! Вон и мать тоже наказывала, да не дело наказывала.
— Ну, да оно почитай что и дело. Недаром ведь толкуют, что жене спускать — в чужих людях ее искать; а кто жены не бьет — тот и мил не живет. Женской быт — всегда он бит.
— Нешто ты сам-то бил, дядя, тетку-то?
— Бывалое дело, — не без того же. Дрались-бранились, а под одну шубу-то ложились. Свой ведь суд короче; на то у нас в дому и согласье стояло. Где грозно — там и честно.
— Да вот опять дело какое, дядя: ребята пойдут — за их ответу много.
— Ну, еще до этого далеко — до ребят далеко. А ты бы смекал пока девку да и за дело бы брался, не откладывал. Нашел ли невесту-то?
— Ну, да как не найти: вон Параньку-то тогда ладил, а теперь и пригодилась бы. Параньку-то и по любви бы можно, а ушло такое время: не вернешь. Параньку-то больно бы ладно.
— Что бредишь-то? что не дело-то разводишь? Чужая, брат, жена — что у волка в зубах: не вырвешь, сказано: не твоя — и воздержись!.. и мимо, дальше проходи… кража ведь это, грабеж, братец ты мой!.. А есть непутные-то такие. — На чужой каравай рта не разевай, а своим-то запасцем жить станешь — и мир не осудит, и на сердце у самого легче, и…
— Я тебе, дядя, не про то… не так бы тебе сказать-то надо… Девку-то я, Лукерью, наметил.
— Трепачиху-то! смотри не ожгись: огонь-девка! Не взяла бы она тебя за нос да не водила бы вдоль избы-то из угла в угол…
— То-то, дядя, не водила бы, не смущала.
— А что же я-то со старости, что с дурости: надо бы мне так тебе сказать, что умей дать жене ход, не пущай вожжей, что лошади, и брыкаться не станет; а не стегай по щекотливому-то месту — и норову не покажет, и повезет тебя ходко, и на бок, в колею какую, не свалит. Вот ведь оно как по-моему; так бы надо говорить!
— Да так и есть и вправду, коли по-твоему эдак! — решил Петр Артемьев.
По совету дяди, сам лично отправился он уторговывать невесту, прихватив кстати и выводное на всякий случай. Дело это ему было нанове, и потому когда он отворил дверь в невестину избу, то и смешался, и растерял все, что успел придумать для разговоров с отцом и матерью и самой невестой.
Стал он у двери, как громом пришибенный, кланялся и махал без толку шапкой.
— Что не сядешь-то: садись! не впервые знаемся. Петр Артемьич! садись — гость будешь, — выручил его из неприятного положения хозяин.
Петр Артемьев помнил наставление матери и продолжал стоять у дверей.
— Я ведь не сирота! — заговорил он наконец. — Я купцом пришел. У тебя товар… и я купцом пришел.
Петр Артемьев еще больше смешался и перепугался.
«Эка притча! — думал он про себя, — угораздило самому прилезть, а и не мое дело-то это. И мать говорила. Сунуло голову в овин, хоть уйти до другого разу — так впору… горю со стыда!»
— Чем же торговать-то надумал? — спрашивал между тем отец невесты.
— Чем надумать-то? торговать!..
И в голове жениха заворочались кое-какие мысли о том, что бы соврать и даже какой товар придумать для торгу. Но отец невесты смекнул, в чем дело:
— Да ты не сватом ли за кого пришел? Товарец-от эдакой, признаться, есть у меня, есть; что греха таить — есть.
— Знаю, что есть; затем и пришел сватом.
— Так садись, дорогой человек: садись в большое место. Сказывай, за кого пришел сватом, по тому тебя и чествовать станем.
— За кого пришел? ни за кого не пришел, сам за себя, — продолжал рассуждать вслух Петр Артемьев и оправился — Лукерья твоя мне по мысли: по ее пришел. Отдай в жены, у меня и выводное с собой, поторгуемся!
— Так надо по обычаю делать, Петр Артемьич, не разгневайся! Ты мне зять сподручный, да уж коли сам пришел сватом за себя, так надо и девку спрашивать, по мысли ли ты-то ей? Такое дело ведется у всех, — вон и баб спроси, да и сам ведь, чай, знаешь?
— Знать-то не знаю, а слышал. Спрашивай девку — по мне, все едино! — решил Петр Артемьев спроста; но ошибся в предположениях.
Девка отказалась наотрез и пустилась в слезы. Если бы Петр Артемьев оставался в избе подольше, не уходил бы вскоре, он мог бы в причитываньях Лукерьи слышать обзыванья себя «постылым, бесталанным, неладным», даже намеки прямые на лысину и старость, поклепы на Параньку, на учительство, на горох, розги, дресву и проч. Устояла на своем бойкая девка и не пела на сговоре, при прощанье с родителями, хоть и кстати была бы теперь эта песня:
Я еще у вас, родители,
Я просить буду, кланяться:
Не оставьте, родители,
Моего да прошеньица:
Не возил бы меня чуж-чуженин
Во чужую во сторонушку,
Ко чужому сыну отецкому,
Не пасся бы он, не готовился,
На меня бы не надеялся.
У меня ль, у молодешенькой,
Еще есть три разны болести:
Я головонькой угарчива,
Ретивым сердцем прихватчива,
Своим свойством неуступчива.
— Заварил Петруха пиво, да сталось нетека! — решили на том мужики-соседи — и только.
— А все оттого, что сам ходил сватом. Ну, мужчинское ли это дело? — толковали бабы.
— Нешто деревня-то клином сошлась? нашлись бы сватьи-то, и я бы сходила!
— Да и я бы, мать, не прочь: и дешевле бы твоего взялась, из одних бы почестей пошла, не токма что…
— Мать бы спосылал, и все бы лучше, гляди.
— Дядя бы сходил — мужик на почете, а то смотри срамоты какой натерпелся: сама Лукерья отказала, сама девка, — да слыхивано ли эдак? Я бы на месте его не отстала.
— Смирен ведь, больно смирен, словно баженник. Только вот с ребятами воевать умеет, и то, слышь, самих сечь-то заставляет: сам не сечет. Смирен!
— Чего, мать, смирен? да экое попущение терпит: девка обошла!
— Сам, сказывали, отец-от ломался; он, мать, всему вина… Он бает: отчего-де дядю не подослал, а сам пришел. И без выводного бы тогда, бает, отдал. — Сам отец не отдал за Петруху, сам…
— Ну уж, поймала бы я на задах Лукерью, вдосталь бы я натрепала да нахлопала ее на Петровом месте — знай!..
— Смирен ведь: воды не замутит.
— Коли уж больно жениться-то приспичило — девок и в соседстве много.
— Да здесь-то срамота; по деревне-то своей срамота. Девок-то наших калачом теперь за него не заманишь…
— Что говорить, дева, что говорить: оплеванной.
— Эко зелье — девка Лукерья-то! Смотри ты, какая шустрая, какую волю взяла: ей бы, вишь, Мишку, почтового ямщика, что высвистывает ее на бору, а уж натрепала бы я ее на Петрухином месте, вдосталь бы нахлопала.
— Ну, да ведь и Петр-от Артемьев стар стал, — сунуло же его без пути-то, без толку, с большой бородой.
— Чего; мать, стар, не старе тебя.
— Небось года ты мои считала, — свои бы лучше смекнула!
— Смекать-то я и свои, и твои смекала, да все, гляжу, — не ровня мы с тобой.
— Ну, где ровня? У тебя-то и курицы-то петухами поют. Бурмистр сватывался, да отказала, за солдата пошла.
— А ты-то за разношерстного попала, прорва экая, — невидаль. Все бы она на облай да на облай шла, ненасытная!
Бабы пойдут дальше на крик и громкую брань; но Петру Артемьеву от этого не станет легче. Он сильно озадачен и как будто провинился в чем: бранил и себя, и Параньку, и Лукерью; но все-таки пришел к тому заключенью, что в настоящем случае ему не нужно было бы самому ходить сватом, а в другой раз не следует и других засылать с тем же делом. Во всяком случае, отказ Лукерьи он почел за неудачу, за одно из несчастий житейских, которые ложатся на сердце тяжелым гнетом и нередко забываются вскоре, если не проточится на сердце новая ранка, которая, растравляя первую, еще не зажившую, сама в то же время болит и ноет.
Так случилось и с Петром Артемьевым. Опять-таки горе не живет одно — по смыслу одной из правдивейших русских пословиц.
Петр Артемьев заметно тосковал, но не жаловался, не надоедал никому своим горем, тосковал молча, про себя, и между тем старательно подчинялся заведенному порядку своей обыденной жизни: по-прежнему ходил с церковными требами по следам дьякона и священника; по-прежнему был в приятельских отношениях с дьячком, во всем посильно помогая ему.