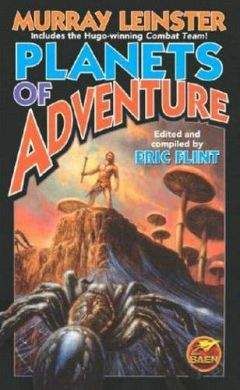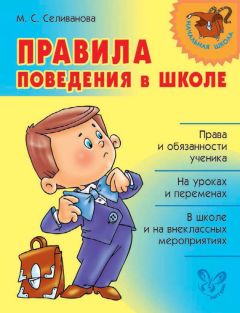Елена Лаврентьева - Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет
Как! скажут мне, из пороку или по малой мере из погрешности хочешь ты учинить добродетель! Я буду отвечать им: когда невозможно быть совершенными, то надобно стараться быть по крайней мере любезными; когда нельзя согласить обращения в обществе с верностию в любви, то лучше остановить успехи непостоянства кокетством, нежели допустить, чтоб переродилось оно в волокитство.
Кокетство приостанавливает время женщин, продолжает молодость их и приверженность к ним: это верный расчет рассудка.
Волокитство, напротив, ускоряет лета, уменьшает цену благосклонностей и приближает время, в которое ими пренебрегают. Повторим же искреннейшее желание наше, чтоб женщины соделывались день ото дня больше кокетками!»
Глава XV.
«Молодой человек, входящий в большой свет, на великий и опасный опыт себя поставляет»{1}
«Молодой человек, желающий быть принятым в большом свете, необходимо должен иметь следующие качества: говорить по-французски, танцевать, знать хотя по названиям сочинений новейших авторов, судить о их достоинстве, порицать старых и все старое, разбирать играемые на театрах пьесы, уметь завести спор о музыке, сесть за фортепиано и взять небрежно несколько аккордов или сыграть что-нибудь затверженное, или промурлыкать романс или арию; знать наизусть несколько стишков любимого дамами или модного современного поэта. Но главнее всего — это играть в карты по большой и быть одетым по моде. Кто имеет все эти достоинства, тот может с честью явиться на сцену модного света»{2}.
Это свидетельство современника явно проникнуто иронией и все же оно дает представление о «салонных талантах», не приносящих, по словам М. Д. Бутурлина, «никакой существенной пользы, но тем не менее служащих как бы паспортом и рекомендацией в то высшее общество, от одобрительной улыбки которого зависит нередко карьера юношей, вступающих в это общество»{3}.
Одним из важных условий «комильфо» для светского молодого человека было умение непринужденно чувствовать себя в любой ситуации. Чтобы овладеть этим искусством, юный дворянин должен был в первую очередь преодолеть робость и стеснительность.
Как пишет Ю. М. Лотман в статье «Декабрист в повседневной жизни…», «подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности», которое определяло поведение разночинца. «Общий порок всех тех, которые выходят из гимназии и университета, тот, что даже если они и хорошо учились, то все у них недостает обращения и познания людей. Они дики, робки, неловки, не мастера изъясняться…»{4}.
Вспоминая бал, устроенный 12 декабря 1824 года в Зимнем дворце в честь рождения императора, А. Е. Розен отмечает: «…приятно было видеть, с какою непринужденностью, держа шляпу свою в руке не по форме, беседовал с государем обер-офицер, флигель-адъютант барон Строганов и что эта непринужденность доставляла удовольствие самому государю»{5}.
Всякая неловкость считалась признаком дурного воспитания. Один неловкий жест мог отразиться на карьере молодого человека. Курьезную историю рассказывает о себе П. Б. Козловский, вспоминая время, когда он служил секретарем у канцлера графа Н. П. Румянцева: «Однажды диктовал он мне важную депешу. Не знаю, каким образом, но в поспешности моей вместо песочницы взял [я] в руки чернильницу и опрокинул ее — на депешу? Нет, но на щегольские белые штаны канцлера. Эта опрокинутая чернильница решила мое повышение. Румянцев поспешил удалить меня от себя, такого неловкого секретаря. Он мне дал в министерстве своем место, на котором мог я управлять делами, а сам мало писал. Без этого маловажного и смешного приключения я, может быть, и ныне еще томился бы в нижних чинах»{6}.
Весьма примечательная характеристика молодого человека содержится в дневнике А В. Никитенко: «Он превосходно танцует, почему и сделан камер-юнкером. Он исчерпал всю науку светских приличий: никто не запомнит, чтобы он сделал какую-нибудь неловкость за столом, на вечере, вообще в собрании людей "хорошего тона"»{7}.
«Я был слаб и неловок, — признается В. И. Танеев. — Отец жестоко сердился, когда я разбивал посуду, обрезывал себе палец.
В одном из пансионов, в которых он учился, воспитанникам было строго запрещено облокачиваться на стол, прислоняться к спинке стула, прикасаться друг к другу. За нарушение этих правил били по рукам линейкой, секли розгами. Отец отличался сдержанными и изящными манерами. Он всегда говорил, что обязан этим той дисциплине, которой подвергался в пансионе.
Он строго приказывал мне сидеть всегда прямо, и сидя за столом держать всегда руки на столе. Впрочем он не сек меня в случае нарушения этого правила»{8}.
«Робость делает обыкновенно дикими, каковыми быть весьма невыгодно; привычка к общежитию есть один из главнейших союзов, связующих людей»{9}.
«В большом свете застенчивость считается главнейшим пороком», — говорит граф Фольгин в комедии М. Н. Загоскина «…Урок волокитам».
«Сколько скромность украшает всякого, особливо юношу, столько застенчивость делает его жалким. Это паралич на все умственные и душевные силы, во все время продолжения припадка. Застенчивость природная может еще быть чрезвычайно усилена сознанием неловкости, когда при воспитании пренебрежены гимнастические упражнения, танцевание, уменье кланяться и пр.»{10}.
«Манеры состоят в уменьи кланяться, ходить, стоять, сидеть и танцевать…» Вот почему светский юноша обязан был строго следить за своими походкой, осанкой, жестами и мимикой. Приведем некоторые «правила благопристойности и учтивости в пользу молодых людей, в свет вступающих», изданные в 1797 году:
«Надобно приучиться держать себя порядочно, ходить не слишком скоро и попрыгивая, что может показать нашу ветреность; ниже чрезмерно тихо, показывая шагами глупую гордость; но умеренную наблюдать должно походку: голову не заламывать высоко, как будто бы звезды считать хотим, ниже нагибать слишком шею, делая на спине сутулину и представляя из себя горбатого.
Естьли мы сидим, то сидеть должно спокойно, держа себя прямо, не кобенясь, не кладя ногу на ногу и не перебирая руками шляпы, пуговиц у платья и тому подобного; не благопристойно также почесываться; кусать губы, ногти, ковырять в носу, тереть слишком много руки и потягивать пальцы, чтоб они трещали. Также стараться удерживаться от зевоты, ибо, когда мы зеваем, то показываем другим, будто нам скучно с ними быть, что противно учтивости.
Положение лица также иметь надобно приятное. Скромная веселость да украсит лице наше, на котором живо должна изображаться чистота души и доброта нравов, ибо мрачный и печальный вид, презрительный взгляд и кислая рожа нравиться никому не могут.
Естьли надобно сморкнуть, кашлянуть или плюнуть, то сделать то в платок, стараясь, сколько можно, чтоб того не приметили, и не смотреть в платок, чтоб не подать кому причины к омерзению.
Когда кто-либо чихнет, не говорить: "желаю здравствовать"; но учтивый наш поклон должен означить, что мы во внутренности сердца здравия ему желаем…»[72]{11}.
Искусство учтивых поклонов вырабатывалось в результате длительных тренировок. «Приличный поклон служит лучшею рекомендациею порядочного человека».
«Не забудь, мой друг, держать шляпу твою под левою рукою и отверстием вперед. При поклонах бери ее в обе руки и подноси несколько раз к лицу», — читаем в «Наставлении молодому человеку, в город отъезжающему»{12}.
«Мужскому полу, держа себя прямо, поступить сколько нужно вперед, стать в первой позиции, наклонить голову по грудь, сгибая очень мало корпус, опустить свободно руки и, приняв прямое положение, стать или пойти далее, смотря по надобностям»{13}.
Преодолеть застенчивость и робость помогали уроки танцев. О том, какое значение придавалось им в воспитании юных дворян, читаем в «Литературных воспоминаниях» Д. В. Григоровича: «Артистическое наше образование дополнялось уроком танцев, сопровождавшимся всегда некоторою торжественностью; приглашались знакомые, зажигались жирандоли с восковыми свечами; нам надевали новые курточки, башмаки и мы выводились в залу. К семи часам являлся старый, лысый скрипач, и вскоре входил танцмейстер г. Бодри, во фраке с необыкновенно высокими буфами на плечах, завитым хохлом и вывороченными, как у гуся, ногами. Раскланявшись с изысканною грацией на все стороны, он устанавливал нас в ряд: сначала учили нас, как входить в комнату, как шаркать ногой, соблюдая при этом, чтобы голова оставалась неподвижной, как подходить к дамской ручке и отходить, не поворачиваясь правым, но непременно левым плечом; затем начинались танцы…»{14}.
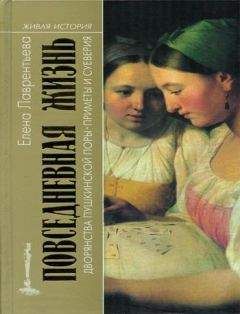
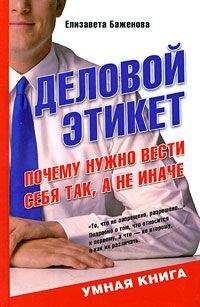
![Елена Кукина - Русская живопись начала ХХ века. Создание новых форм [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)