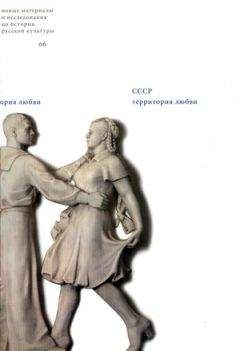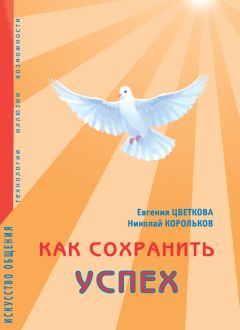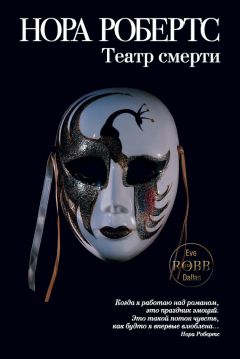Сборник статей - Софиология
Очередным, весьма важным этапом развития концепции софии был гностицизм. В текстах Лосева о гностической софии можно найти много любопытных деталей, однако мы ограничимся указанием основных черт, которые представляют наибольшую значимость. Прежде всего, в гностицизме происходит персонализация Софии. Во-вторых, София рассматривается здесь как причина материи и зла, возникающего в результате ее отпадения от божества. В-третьих, гностики (например, Валентин) предлагают своеобразную теорию спасения мира, которое осуществляется посредством возвращения софии в плерому. Словом, софиология гностиков есть персоналистически-мифологический аллегоризм[55]. Лосевская оценка этого явления крайне отрицательная. По его словам, «более глубокого и более яркого образа безнадежных исканий совместить язычество и христианство, чем образ гностической Софии, невозможно себе и представить. Умирающее язычество здесь буквально испытывало последние судороги перед лицом восходящего христианства, и судороги эти, занявшие собою не меньше трех столетий, могли закончиться только гибелью всей языческой культуры»[56].
Тем не менее, несмотря на наступившую гибель язычества, Лосев не скрывал своего восхищения античной культурой, которую он по-своему пытался совместить с христианской религией[57]. В частности, философу была близка неоплатоновская трактовка софии как категории выражения, принципа всевозможных субстанциальных оформлений: в природе, в человеке и во всем космосе как целом. Далее мы увидим, что именно эта концепция, лишенная гностических мотивов персонализма и дуализма, оказала влияние на оригинальные софиологические построения самого Лосева. Однако прежде мы обратимся к анализу понятия софии в мысли учителя Лосева – В. Соловьева.
1.2. Анализ соловьевской софиологииЛосев отмечает, что «София у Вл. Соловьева – это основной и центральный образ, или идея его философствования»[58]. Анализ соловьевской софиологии был проведен на основании практически всех имеющихся материалов по этой теме: юношеской рукописи, озаглавленной «Sophie», и других работ, к которым относятся: «Философские начала цельного знания», «Чтения о Богочеловечестве», «Россия и Вселенская церковь», «Смысл любви», «Три разговора», доклад «Основная идея
О. Конта», стихотворения (особенно «Три свидания», «Июньская ночь на Сайме», «Вся в лазури сегодня явилась…», «Близко, далеко, не здесь и не там…», «Песня офитов», «Das Ewig-Weibliche»), а также вышеупомянутые статьи из Энциклопедического словаря.
Ранний диалог Соловьева «Sophie» Лосев расценивает как «жуткий философско-мистический набросок», полный «чудачества, фантастики и непродуманных бредовых идей»[59]. Однако, следуя своему методу, Лосев тотчас же добавляет, что «для историка философии это бредовое бурление очень ценно»[60], поскольку позволяет выявить источники софиологии Соловьева, а именно: библейские, каббалистические и гностические мотивы.
Ключевым для соловьевской софиологии является убеждение о взаимопроникновении идеи и материи. По его мнению, всякая идея, не исключая идеи Бога, непременно выражается в материи, а материя всегда связана с идеей. Софию Соловьев мыслил как «нераздельное тождество идеального и материального, то есть как материально осуществленную идею или как идеально преображенную материю»[61]. Этот взгляд, как мы видели, уходит корнями в глубь античности; разделял его также сам автор работы о Соловьеве – Лосев.
Как известно, Лосев выделяет десять аспектов софиологии своего учителя, которые, тем не менее, перекрещиваются между собой. Представляется возможным дать некую типологию предлагаемых Лосевым аспектов. В трех первых моментах Софии речь идет о синтезе, органической связи двух противопоставляемых сторон – идеального и материального в онтологическом плане. Первый, абсолютный аспект представляет Софию нетварную, то есть умную материю, или тело Бога, отличное от абсолюта и в то же время неотделимое от него. Аспект богочеловеческий (второй) – это София тварная, то есть воплощение Божественной Премудрости в чувственной материи, а аспект космологический (третий) в свою очередь выражает воплощение абсолюта в космосе. Очередные три аспекта имеют антропологический (в широком смысле этого слова) характер и подчеркивают то единство идеи и материи, которое осуществляется в человеке: взятом в целом (четвертый, общечеловеческий аспект); рассматриваемом как Вечная Женственность (пятый, универсально-феминистический) и как предмет любви философа (шестой, интимно-романтический момент[62]). Остальные аспекты выражают конкретные черты, то есть специфицируют Софию как женское начало: в эстетическом и в эсхатологическом отношении – как красоту, которая спасет мир (седьмой и восьмой моменты), Софию как предмет молитвы (девятый, магический аспект) и, наконец, Премудрость Божию как исконно русскую концепцию (десятый, национально-русский аспект).
Выделенные Лосевым (и сгруппированные нами) аспекты соловь-евской софиологии имеют весьма условный характер. Автор отмечает, что «логически тут полная путаница. Но ведь, кроме логики, еще есть психология. Психологически же Вл. Соловьев был буквально одержим пафосом софийности, а это и заставляло его находить ее решительно во всех центральных пунктах своего мировоззрения»[63]. Поэтому с полной определенностью можно сказать, что София как всесторонний синтез идеи и материи является аналогом соловьевской концепции всеединства.
2. Концепция Софии А.Ф. Лосева
Как уже отмечалось, тема Софии появляется в творчестве Лосева не только в его историко-философских исследованиях поздних лет, но уже в так называемом «раннем восьмикнижии» и других материалах 20-30-х годов XX века, в которых мыслитель пытался философски обосновать позицию имяславцев. Хотя в своих ранних работах Лосев почти не упоминает имени своего учителя, нетрудно заметить, что его определение Софии во многом зависит от концепции Соловьева. Оба философа рассматривают Софию как принцип осуществления Божества. В «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев пишет: «София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство Христос, как цельный божественный организм – универсальный и индивидуальный вместе, – есть и Логос, и София»[64]. Также Лосев был убежден в том, что Бог имеет присущую Ему умную материю, благодаря которой реализуется Его субстанциальность. Рассуждения о Софии появляются у Лосева в контексте его диалектики Единого, то есть единства Трех Божественных Ипостасей. В работе «Античный космос и современная наука» философ применяет свой диалектический метод по отношению к Богу (так называемая тетрактида А) и к космосу (тетрактида В). Лосев, ссылаясь на Платона, утверждает, что во всякой сущности можно выделить диалектически взаимосвязанные начала, или категории: нечто (сущее как таковое, находящееся в покое), иное (принцип различия, подвижность) и становление (синтез сущего и несущего, то есть иного). Применительно к Богу эти начала выражают Лица Святой Троицы, понимаемые как «ум», «воля» и «чувство». Кроме того, сущность имеет четвертое начало – наличность, факт, тело, носитель смысла, «материал оформления, субстрат осмысления, воплощение сущности»[65]. В тетрактиде А (то есть Едином, вернее, Триедином) четвертое начало есть София, которая есть «как бы тело Божие, престол Божий, храм Божий, вместилище, носительница Бога»[66]. Наконец, Лосев пишет о пятом, ономатическом начале, или имени, которое «.выявляет и изображает софийно субстанциально утвержденную триипостасность»[67]. В результате «первые три начала в аспекте четвертого суть осуществленные три начала, а в аспекте пятого суть выраженные три начала»[68].
Несмотря на то что София является четвертым самостоятельным началом в Боге, она не «четвертит Троицу», а «осуществляет первые три» категории[69]. На упрек в том, что в традиционном богословии (в частности, в патристической традиции) отсутствует концепция Софии, Лосев отвечает следующим образом: «Дело в том, что учение о трех Лицах Божества сформулировано в догмате так, что оно решительно захватывает и всю софийную сферу. Достаточно указать хотя бы на одно то, что первое Лицо мыслится рождающим, второе же рожденным. Тут яснее дня выступает софийная характеристика, ибо понятие «рождения» отнюдь не есть чисто смысловое понятие, ибо оно предполагает некую вещественную, телесную, жизненную осуществленность этого смысла»; отсюда «кто отрицает софийность в Божестве, тот вообще отрицает Божество как субстанцию, как реальность; и тот признает в Боге наличие только идеально-мысленного бытия, без всякого осуществления и без всякой субстанциальной самостоятельности»[70]. Лица Святой Троицы различаются реально, а не только мысленно, а это возможно именно благодаря Софии – началу, реализующему ипостасность.