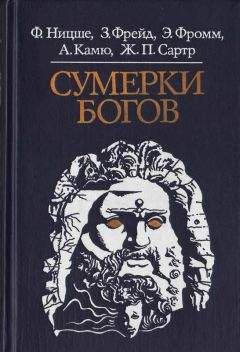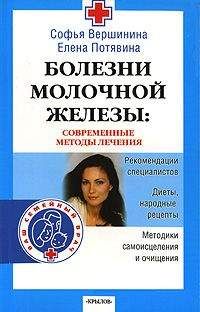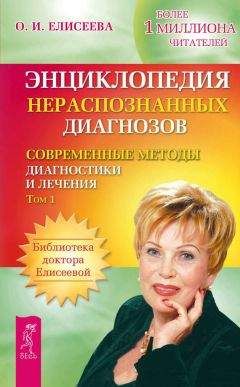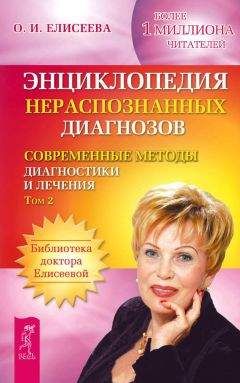Коллектив авторов Филология - Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика
Во второй половине 1980-х годов советская публицистика откликается на гинекологическую агитацию целым рядом резко критических статей, посвященных этой проблематике (ср. уже упомянутые «круглые столы» в «Работнице», статью Н. Владиной «Женщины уже не просят — требуют неотложной помощи: так что же для них аборт: операция или пытка?» [Владина 1989]; статью 3. Алешиной «Мой малыш» о патологии беременности [Алешина 1988]; статьи С. Буровой «Миниаборты и макси-проблемы» о нехватке поликлиник и врачей-специалистов, работающих по новой абортной технологии [Бурова 1988а], и «Дурной сон» о тяжелых родах [Бурова 1988б]). Их пафос заключается по преимуществу в обнародовании — в духе гласности — фактов жестокого обращения с пациентками роддомов и абортариев, случаев врачебной неграмотности, ошибок и халатности. Никаких способов улучшения катастрофической ситуации, кроме апелляций к государственным инстанциям, публицистика не предлагала. Зато обилие критических статей на темы родовспоможения и абортов и часто используемый журналистами прием обобщения создавали впечатление безысходности — неизбежности женского страдания. Мучительный аборт и болезненное материнство становились таким образом частью женской самоидентификации, а их тематизация в литературе — способом типизации женских характеров.
Таким приемом типизации пользуется Л. Петрушевская в рассказе «Белые дома»: «До этого Вера жила как все студентки, аборты, танцы, любови каждую зиму» [Петрушевская 1998: 89]. В рассказе «Гимн семье» два былых аборта и назревающая третья «залетная» беременность вписывают ее героиню Аллу в сообщество окружающих ее старших женщин [Петрушевская 1998:105–112]. Ее безмужнее материнство продолжает цепочку незаконных рождений в ее семье. В родившейся девочке мать отца ребенка видит реинкарнацию своего выросшего сына. Именно материнство превращает одинокую Аллу в состоявшуюся взрослую женщину. Интересна и форма рассказа Петрушевской — перечисление 55 пунктов, что подразумевает стандартность, усредненность истории, ее приложимость к любой судьбе.
Подобный прием типизации использует и Н. Суханова в рассказе «Делос», описывая одну из своих героинь цитатами из ее медицинской карты: «Григорьева Екатерина Семеновна. Тридцать три года. Брак с двадцати двух. <…> Две доношенные беременности. Три аборта. Все среднестатистическое» [Суханова 1988:74]. Далее, осуждая сотрудниц роддома за грубость по отношению к пациенткам абортария: «Ведь каждая из наших работниц хоть раз решалась на это же» [Суханова 1988:72]. Все женщины в ее рассказе уравниваются в единой общей доле, врачи-женщины и их пациентки поочередно оказываются в абортной палате. Одна из коллег героя-рассказчика, главврача гинекологической клиники, после сделанного ей аборта запросто заходит к нему поболтать. Аборт наравне с материнством становится привычным и неотъемлемым элементом женской судьбы. Об этом свидетельствуют даже в большей степени упоминания вскользь, когда аборт не становится сюжетообразующем мотивом, а яляется лишь маленькой деталью в портрете героини.
Так же как и в «Гимне семье» Петрушевской, в рассказе Сухановой все женщины сливаются в одну деперсонализированную женщину, различаясь лишь именами, анамнезами и временной последовательностью: рожала, рожает, будет рожать. Женщина, ожидающая третьего ребенка, рассказывает врачу о своих первых родах, во многих деталях совпадающих с только что принятыми им родами у молодой женщины, по имени Леночка. Разница между ними лишь в возрасте и опыте. В интерьере роддома исчезают индивидуальные различия, остается биологическая функция и отягощающая ее история болезни. Героини характеризуются практически только диагнозами, программирующими их поведение: женщина с неправильным положением плода, студентка, ожидающая аборта, и т. д.
Цитаты из античной мифологии, критические выпады против сторонников евгеники, критика культуры, желающей видеть красивый дух, а не вопящую роженицу, все философские обобщения происходят — и это характерно — в сознании врача-рассказчика, в мужском сознании. Рассказы женщин сконцентрированы вокруг деторождения, лишь одна психологическая характеристика женских персонажей важна для автора — их отношение к диагнозу. Никто из женщин не осуждается, но положительной оценки заслуживает только одна поведенческая модель — терпение и полное приятие ситуации, безответное женское страдание.
Аборты в этой непрерывной цепочке репродукции представлены как репетиция или отсрочка материнства. Привычность этой операции отнюдь не исключает ее трагичности. В идеальном варианте — так мечтает рассказчик — каждая беременность должна заканчиваться родами, а каждый родившийся ребенок — выживать. Однако жизнь жестче, и матери, будучи не в силах прокормить более двоих детей, вынуждены идти на аборт. (О контрацепции в соответствии с реалиями времени герой Сухановой, врач и жрец деторождения, не упоминает. Контрацептивов нет ни в жизни, ни в литературе.)
Аборты влекут за собой патологии беременности. Так рядом с женщиной необходимо оказывается врач. Патологизованное женское тело, выхолощенное абортами, сопоставляется в рассказе Сухановой с бесплодной землей, экологической катастрофой. Женская литература этого времени вообще охотно пользуется метафорой катастрофы, апокалипсиса, последних времен[256], внося в пространство текста воздух экономического и идеологического кризиса, охватившего страну. Ситуация эта имплицитно оценивается женскими текстами как угроза вырождения, коррелируя тем самым с уже знакомой по публицистическим трактатам и политическим программам идеей демографического кризиса, и требует особых поведенческих моделей. Уже героини «Делоса», опубликованного в 1988 году, демонстрируют животную мудрость, идя на аборт или отказываясь от кесарева сечения, жертвуя слабым потомством в пользу будущего сильного: «Преследуемая кенгуру выбрасывает из сумки детеныша — ни матери, ни детенышу вместе спасения нет, одна же она спасется, родит других кенгурят» [Суханова 1988: 72]. Но и состоявшееся материнство описывается как торжество инстинкта продолжения рода, преодолевающего все, даже бесплодие. Именно поэтому в центре рассказа Сухановой — редкая патология, выношенная внематочная беременность, последствие тяжелого аборта.
Анималистическую метафорику по отношению к женским персонажам развивает та же Петрушевская в повести «Время ночь», опубликованной в «Новом мире» в 1992 году (№ 2). Комментарии пожилой поэтессы, от имени которой ведется повествование, к дневнику дочери и сам дневник настойчиво проводят мотив животного соития: мужчина-любовник — зверь, павиан, конь, «с шелковой кожей и шерстью, покрытой капельками росы» [Петрушевская 1995: 434] — Р — Ноейль, анализируя описания тела и секса в рассказах П. Слукиной, Петрушевской и В. Токаревой, подчеркивает, что редукция сексуальности к примитивному удовлетворению биологических потребностей, механистичность, некоммуникативность сексуальных контактов характерна для женской прозы этого времени [Nohejl 1996: 200–201].
Именно в таком ключе описывается женская сексуальность у Петрушевской. Ее героиня не в состоянии рефлексировать свои чувства и желания, ей практически недоступна никакая информация по вопросам пола[257]. Она беременеет в результате первого же сексуального опыта, превращаясь в мать, так и не освоившись с ролью любовницы. Через два года следует вторая попытка, тут же увенчивающаяся второй беременностью. Секс — удовольствие для мужчины — оборачивается для женщины разочарованием и неудовлетворенностью[258]. Единственным оправданием «всего этого ужаса и разврата» становится материнство[259]. Таким образом, женская сексуальность не тематизируется в повести Петрушевской как самостоятельный дискурс, а связывается исключительно с проблематикой деторождения. Налицо очевидное единогласие с популярными медицинскими трактатами и позицией официальной гинекологии, упомянутыми выше.
Секс описывается как техника размножения, а не как искусство любви. Анималистическая метафорика применяется и по отношению к материнству — момент зачатия неосознан, и столь же инстинктивна связь матери и ребенка: «Женщина слаба и нерешительна, когда дело касается лично ее, но она зверь, когда речь идет о детях» [Петрушевская 1995–437]. Анималистичность, не-личность — частый мотив в текстах о женщинах. В этом же ряду стоит и рассказ Р. Елагиной «Вьючно-сумчато-ломовое» [Елагина 1990: 26–27], героиня которого демонстративно отказывается от статуса женщины и определяет себя как животное. Анималистичность прослеживается на всех ролевых уровнях: жена, мать, любовница.
Сведение роли женщины к репродуктивности по формуле «женщина=состоявшаяся/несостоявшаяся мать» было, конечно, не единственной формой репрезентации женственности. Но на фоне многочисленных публикаций в прессе образ вечно страдающей, вечно ущемленной, жертвующей собой ради детей матери становился все более доминантным.