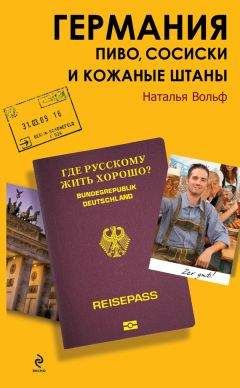Григорий Амелин - Миры и столкновенья Осипа Мандельштама
(I, 493-494)
Анненский понимает метаязыковой характер брюсовской эротики: “Во всяком случае, если для физиолога является установленным фактом близость центров речи и полового чувства, то эти стихи Брюсова, благодаря интуиции поэта, получают для нас новый и глубокий смысл. ‹…› Не здесь ли ключ к эротике Брюсова, которая освещает нам не столько половую любовь, сколько процесс творчества, т.е. священную игру словами”.
В отличие от Бродского, Хлебников везде найдет себе место: можно вести карточную “Игру в аду”, а можно трудиться в раю, важен результат – виктория, победа:
Игра в аду и труд в раю –
Хорошеуки первые уроки.
Помнишь, мы вместе
Грызли, как мыши,
Непрозрачное время?
Сим победиши!
(“Алеше Крученых”)
Время, по Хлебникову, – это “мера мира”, но особая мера, которая есть искомая дыра, rima, в настиле мира, что прогрызают поэты, подобные мышам.
Ключевой для поэтической мифологии мыши в Серебряном веке явилась статья Максимилиана Волошина “Аполлон и мышь” (1911). Уже в “Поверх барьеров” Пастернака алчные стада грызунов активно вживаются в речную стихию речи, движутся кровяными шариками в артериях кровоснабжающейся системы поэтического тела. Они заняты строительством первоматерии, “Materia Prima”. Так и называется стихотворение 1914 года:
Чужими кровями сдабривавший
Свою, оглушенный поэт, –
Окно на Софийскую набережную,
Не в этом ли весь секрет?
Окно на Софийскую набережную,
Но только о речке запой,
Твои кровяные шарики,
Кусаясь, пускаются за реку,
Как крысы на водопой.
Волненье дарит обмолвкой.
Обмолвясь словом: река,
Открыл ты не форточку,
Открыл мышеловку,
К реке прошмыгнули мышиные мордочки
С пастью не одного пасюка.
Сколько жадных моих кровинок
В крови облаков и помоев и будней
Ползут в эти поры домой, приблудные,
Снедь песни, снедь тайны оттаявшей вынюхав!
И когда я танцую от боли
Или пью за ваше здоровье,
Все то же: свирепствует свист в подпольи,
Свистят мокроусые крови в крови
. (I, 467)
Гематологическая функция мышей-Муз – основа для “Сестры моей – жизни”. Второе стихотворение сборника выступает в роли гида для читателя, отправляющегося в путешествие по всей книге, и рассказывает о специфических свойствах автора. Итак, “Про эти стихи”:
На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам. ‹…›
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут, окунал
. (I, 110)
Чтоб истолковать эти стихи, потребуется присмотр к мельчайшим подробностям поэтического хозяйства. Нужно истолочь стих, как стекло, крошкой которого изводят грызунов. Но пастернаковские мыши в полном здравии и питаются крупой поэзии. Истолченным солнечным стеклом автор кормит… жизнь, которая открывается, распахивается из сырого и темного угла – в Рождество. И пока хозяин пьет и курит с Байроном и По, мыши, как первопроходцы, протаптывают тропку к двери, “к дыре, засыпанной крупой”. Только вооружившись горечью вермута, испытав муки ада (рай бессилен!) и проникнув первичным трепетом вселенной, поэт познает вершины Дарьяльского ущелья.
Рифменная красавица “Второго рождения” – того же рода. Ее “стать и суть” – в эротической природе стиха. Здесь, как и в стихотворении “Про эти стихи”, ингридиенты берутся пополам и по полам. Набоковский рассказ “Красавица”, написан летом 1934 года по стопам “двурушнического” “Второго рождения”. Его героиня – воплощение рифменного строя: “С жуткой легкостью, свойственной всем русским барышням ее поколения, она писала – патриотические, шуточные, какие угодно – стихи”. Живет она в Берлине на улице с аукающимся названием Аугсбургерштрассе, вяжет и преподает французский: “Она свободно говорила по-французски, произнося les gens (слуги) как будто рифмуя с agence и разбивая aout (август) на два слога (a-ou). Она наивно переводила русское “грабежи” как grabuges (перебранка”)…” . На вопрос приятельницы, много ли у нее поклонников, она откликается: ““ Нет, матушка, годы не те, – отвечала Ольга Алексеевна, – да кроме того…” Она прибавила маленькую подробность, и Верочка покатилась со смеху…”. Маленькая подробность касается вагины. Красавица – персонифицированная рифма, rima, эхо. Позже Набоков назвал свою “Красавицу” “занятной миниатюрой с неожиданной концовкой”. Вот этот финал: “Это все. То есть, может быть, и имеется какое-нибудь продолжение, но мне оно не известно, и в таких случаях, вместо того, чтобы теряться в догадках, повторяю за веселым королем из моей любимой сказки: “ Какая стрела летит вечно? – Стрела, попавшая в цель””.
ВСЁ
..Поклонение “Пану”, т.е. несознанному
Богу, и поныне является моей “религией”.
Осип Мандельштам
Solches Gestimmtsein, darin einem so und so “ist”,
l? ? t uns – von ihm durchstimmt – inmitten des Seienden im Ganzen befinden. Die Befindlichkeit der Stimmung enth? llt nicht nur je nach ihrer Weise das Seiende im Ganzen, sondern dieses Enth? llen ist zugleich – weit entfernt von einem blo? en Vorkommnis – das Grundgeschehen unseres Da-seins.
Martin Heidegger
.О своей ранней и очень короткой драме Хлебников отозвался так: “В “ Госпоже Ленин” хотел найти “ бесконечно малые” художественного слова” (II, 10). Действующими лицами явились Голоса, всего их пятнадцать и все они принадлежат одному персонажу – больной психиатрической лечебницы г-же Ленин: Голос Зрения, Голос Слуха, Голос Рассудка (Разума), Голос Внимания, Голос Памяти (Воспоминания) и т.д. На протяжении двух сцен они говорят между собой о своей госпоже. Нескончаемый разговор предваряется авторской ремаркой: “Сумрак. Действие протекает перед голой стеной”. Врач, пытающийся лечить пациентку смехом, носит имя “Лоос”: “Он весь в черном. ‹…› Он продолжает все еще что-то говорить”; после его ухода “все тихо” (IV, 246-247). (Запомним на будущее это нагнетание “весь… всё… всё”.) Но невзирая на обилие голосов и бесконечность малых составляющих слова, не хватает главного – Голоса Голоса. Больная молчит, не дает ответа: “…Все же слово не будет произнесено”; “Все погибло. Мировое зло” и заключительные слова драмы: “Г о л о с С о з н а н и я. Все умерло. Все умирает” (IV, 250). Ленин отказывается от голоса как формы и полноты своего бытия. “Всё”, единство обретенного и зазвучавшего голоса и пытается вернуть ей врач Лоос – Логос, распавшийся в сознании героини на множество несоединимых голосовых личин. Ее изъян, ее личное “зло” (еще одна “бесконечно малая” и убийственная частица распавшегося “логоса” как слова и как понятия) превращает Ленин из всего, целого – в ноль, ничто, le n? ant. Эта французская транскрипция ничто и звучит стертым, искаженным образом в имени главной героини. Из всеполноты голоса-логоса она превращается в n? ant, ничто.
Анненский писал: “Дело в том, что страх человека перед смертью глубоко эгоистичен, и уж этим одним он интимно близок поэзии. С другой стороны, идея смерти привлекательна для поэта простором, который она дает фантазии. Реми де Гурмон давно уже заметил, что наш интеллект никак не может привыкнуть к обобщению идеи смерти с тою, которая, казалось бы, особенно ей близка, т.е. с идеей небытия (du n? ant). Здесь поэзия является именно одною из сил, которые властно поддерживают эту разобщенность. Дело в том, что поэт влюблен в жизнь, и таким образом смерть для него лишь одна из форм этой многообразной жизни. Le n? ant получает символ, входящий в общение с другими, и тем самым ничто из ничто обращается уже в нечто: у него оказывается власть, красота и свой таинственный смысл”.
У Хлебникова та же идея – движение от жизни к смерти, от бытия – к небытию. Эксперимент с деструкцией всеголоса. Хлебников, вслед за Анненским, опирается на “Евгения Онегина”:
Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвятясь невинным,
Брожу над озером пустынным,
И far niente мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?
(V, 33)
Необходимый закон поэта – лень. “Темный ум” проясняется в “бездействии”, “праздности” и “беспечности” (итал. non far niente – “ничего не делать, бездельничать”). Набоков писал в своих комментариях: “Использование итальянских слов “far niente” (которые даны здесь четырьмя слогами как если бы они были латинскими) – это на самом деле галлицизм…”. В “Книге отражений” Анненский несколько раз в чрезвычайно категоричной форме растолковывает пушкинскую мысль. Хлебников производит имя героини от le n? ant в интерпретации Анненского и – через пушкинский роман в стихах – от русского слова “лень”: