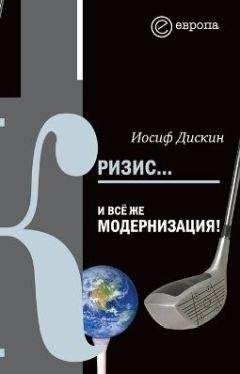Сергей Максимов - Лесная глушь
Петруха в долг да впоколоть пробирался в деревню, и действительно, дорога эта была ему и трудна, и решительно несподручна. Долго — втрое дольше прежнего — был он в дороге и едва-едва достиг до того, что увидел и село с погостом, на котором похоронил когда-то старика дедушку и старшего брата и на котором также, вероятно, похоронили без него и старика отца. Увидел и знакомый бор, на котором сбирал он грибы и ягоды, и речонку, в которой купался и купал сивка и буланого, и Бараново в стороне, в котором — когда-то давно — мужики поймали баловливую попову кобылу и, привязавши к хвосту длинный шест, пустили передом в овин; билась лошадь вперед, и не пустила палка, а назад попятиться не догадалась скотина до той поры, пока не привели самого хозяина. В воображении Петра Артемьева рисовались и отрубленные хвосты бодливым коровам, и материны рыданья при прощанье, и толстый бурмистр, запарившийся в бане, и дедушкины похороны, и высокая шапка, свихнутая набок, и сладкая кутья из яшного пшена с медом, и жаркая черная баня, в которой так хорошо париться, и дядины наказы, и его толковитость, и то уважение, с каким обращалась к нему вся окольность…
«Идти ли, полно, к нему навязываться? — думал Петр Артемьев. — Облает, обессудит: крутой обычаем… Али пойти? доводилось же так и в Питере: придешь — думаешь, ругаться станут, а ничего — словно и не виноват, почтение отдадут, словно и не знают твоих провинностей и ровно бы не ты их сделал».
С такими рассуждениями он подвигался все дальше вперед — ближе к родной деревне, которая казалась ему сначала вдали одним черным, большим домом, который несколько раз скрывался то за горой, то за лесом и наконец выставился совсем на глаза рядом изб, над которыми различил он и скворешницы, а подле деревни — бани, овины, кузницу, сотского изба с краю, напротив их домишко, дальше дядин…
У Петра Артемьева защемило сердце.
V. Деревня
— Здорово, батюшко Петр Артемьич, здорово! — говорил дядя, вытащившись из-за стола и сухо обнимая племянника, который мгновенно приободрился и начал уже спокойнее и радостнее глядеть на свет божий.
— Ну, что? как там Питер-от ваш — богатый город? — продолжал спрашивать дядя, видимо любопытствуя знать о столице и желая приласкать гостя.
Так, по крайней мере, подумал и решил Петр Артемьев.
— Не говори ты мне о эком городе, не вспоминай его — глаза бы не глядели!
Племянник махнул рукой.
— Что, брат, больно рассерчал на него? али и у тебя тоже, как и у других наших ребят, что в осенях вернулись. Пришли, братец ты мой, — и начали загибать тут бабам-то да мужикам-домоседам: мы-ста и на свет-то глядим инако, и денег берем много. Наши-то домовики. слушали да ахали, а денег-то ребята им не давали: жизнь, мол, дорога там. Сталось на моем, что в Питере, мол, живал, на полу сыпал и тут не упал… Так ли небось, племянник дорогой?
— Что тебе, дядя, врать спуста-то: всю перед тобой, значит, правду скажу. Одно, стало быть, горе было: хозяин, дядя, невзлюбил.
— Знаю, племянник дорогой! Знаю так, что, коли хочешь, все расскажу тебе — все как по пальцам размажу: перво-наперво, видишь, ты у одного жил, и ладно бы жил — толково жил, пока не надоскучило. Что-де, думаешь, — все ребята как есть вольные, куда надумал, туда и пошел. Чем же, мол, я-то матери пасынок? Немцев-хозяев, вишь, хвалят молодцы: пойду-де к ним. На то моя добрая воля — никто не указ. Ну, вздумал, да и пошел, и принял немец, и живешь у него. Да чистоту, вишь, немцы-то любят; а где тут за собой на всяком шагу смотреть, да на всякий-то, мол, день и мыла не напасешься. А шут, думаешь, с ним! ребятам русские хозяева по полтиннику, где и по целковому дают на гулянку, а тут тебе немец отвалит двугривенный — и раскутись на него, как знаешь! Не так ли я говорю, Петр Артемьич, племянник дорогой?
— Чтобы тебе молвить — не соврать: не живал, дядя, у немцев. Хоть наших ребят спроси — и не думал.
— Ну, да ладно, пожалуй: я ведь и в долг поверю. Не живал ты у немцев, так, чай, к нашему какому нанимался?
— К Трифону Еремеичу ходил и жил у него: не стану врать, дядя.
— Ну, да хоть и… к Михею бы какому Савичу. Что же, поди, прогульные дни вычитал? Коли выбрал ты все деньги свои, не давал вперед на гулянки?
— Раз дал, дядя, да после, вишь, другие-то ребята сбили, из-за них и мне не давал, а то завсегда на почете был.
— Ну, а те, стало быть, на тебя клеплют, что из-за тебя-де хозяин отказывать стал: у вас и идет круговая! Вот ты и стал стонать да охать: и этот-де хозяин обижает, — надо другого приискать. Тут, мол, тебе не токма-де чаю в харчевне, и водка-то на диво станет. Заходили, поди, к тебе земляки, так и угостить их нечем было: посидели с тобой, помолчали: один, поди, на балалайке тряхнул. Али гармонию держишь?
— Балалайки, дядюшка, придерживался: не солгу ни в чем. Кори ты сколько хошь, сколько душе твоей надо: все буду слушать; обидного тебе слова не молвлю.
— Корить тебя что мне? А обидного слова от экого наянливого человека мне не на диво слушать. Отступись ты, провались совсем!
И старик дядя, махнув рукой, замолчал.
Молчание это коротко было знакомо семье (которую — надо признаться — держал старик, что называется, в ежовых рукавицах), понятно было молчание это и для племянника. Старик, видимо, шибко сердился, и только непонятным казалось одно, что он не топнул ногой, не кричал до перхоты и кашля.
Он медленно вытащился из-за стола, сильно и громко крякнул и медленно пополз на полати.
Все это делал он при общем гробовом молчании. Гораздо после нарушилось это молчание им же самим. Старик говорил:
— Дали бы вы ему, бабы, поесть, что ли? — авось дядиным-то хлебом-солью не поперхнется…
Но Петру Артемьеву, кажется, совсем не до еды было: горячим варом обдавало его лицо, и горело оно словно на ветру, после жаркой бани. Неловко ему как-то и стоять у стола: рук и ног девать некуда и бороду бы спрятал… А тут еще дядя с полатей уставился на него своим строго-насмешливым взглядом, и концы бороды подбирал в рот и обгрызывал их, и все смотрел пристально на нежданного гостя.
«Не с того дядя начал! — думал этот. — Сначала-то бы и ладно, и по мне бы, а тут круто, круто пошел. Кажись бы, лучше, кабы лаской-то донял. А то тут тебе и слов не приберешь — все одно да одно. Ну, знамо, худо дело: сам вижу. Кабы знал я это, в Соснине бы лучше остался, в работники бы, что ли, какие нанялся…»
— Не проси, тетушка! — говорил уже вслух Петр Артемьев, бессознательно усаживаясь за стол, — сыт еще от соснинских.
— Да не гневайся, Петрованушко! — не гляди ты на него, знаешь ведь: завсегда крутой был, а теперь совсем стал грублив, и не приступайся. Все не по нем, — шептала старуха тетка. — Как ты ушел в Питер, так словно кто его пополам переломил: такой-то стал неповадный, все урчит, все не по нем. Ох!.. крут на старости стад, больно крут!..
— Проси его, старуха, проси — кланяйся! — заговорил дядя с полатей. — Столичный народ любит повадку, шибко любит: на то ведь и жил там ровно четыре года, а нас, стариков, и в грош не ставил, и за родню кровную не считал, потому что сам лучше. Всех мой племянник лучше, и меня лучше.
— Ох, не казни ты его, Селифонтыч, не казни своей немилостью: вишь, на парне и лица-то не знать стало. Брось ты покоры-то эти! — не слыхали бы мои уши, не видала бы лучше срамоты на нем. Родной ведь — племянник по тебе…
Старуха давно уже заливалась слезами. Сочувствуя ей, нелегко было удержаться от того же и другим бабам; крепился еще виновник печали да дядя его, немедленно приказавший быть слезам за переборкой, на своем месте. Он не любил шутить и стал действительно крут и сварлив, вздорен, капризен, как все старики, умудрившиеся опытом жизни и совершенно забывшие об увлечениях своей и чужой молодости, ища всюду только одного почтения к себе и беспрекословной полной подчиненности. Они как мухи, которые сильнее брюзжат и более кусаются перед скорой зимней спячкой. Законно ли это и разумно — семья старика рассуждать не смела и не находилась; а племяннику и подавно не было до этого дела. К тому же он совершенно был убит и озадачен.
В избе опять все замолчали, кроме лучины, которая продолжала шипеть, трещать и стрекать угольком в воду лоханки.
Петр Артемьев к расставленным яствам и не притрагивался, а сидел, потупив голову, ворочая ложкой, чашкой, сукроем хлеба. Дядя начал первым, после долгого неприятного, убийственного затишья, и опять не так, как бы желал и смел ожидать племянник.
Дядя говорил, как будто про себя и ни для кого другого:
— У нас на днях свадьба наладилась: Паранька Стрекачиха за Пузанова старшего парня выходит, и знатная парочка — баран да ярочка. Михайло-то Пузанова славный вышел: у отца в лавке правая рука. На Макарьевскую батько посылал — так сам, слышь, сказывал, так бы не съездил: подобрал таких красных да пестрых товаров, что целую округу собери мужиков да баб наших — лучше б не выбрали.