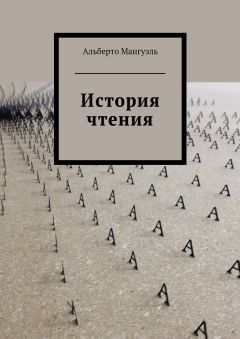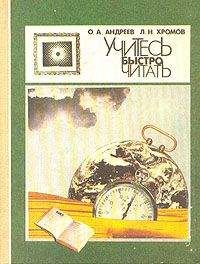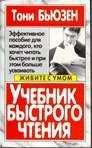Человек читающий. Значение книги для нашего существования - Хисген Рюд
Результаты исследований свидетельствуют о том, что подобная гаптическая и тактильная связь с печатным текстом помогает читателю запоминать последовательность событий в рассказе. В ходе эксперимента, проведенного норвежским исследователем чтения Энн Манген, выяснилось, что читатели, использующие для чтения устройства iPad и Kindle, существенно хуже справлялись с определением последовательности событий по сравнению с читателями печатной версии того же текста. По всей видимости, читателям текстов на цифровых носителях не хватает тактильного ощущения продвижения по тексту в качестве поддерживающего визуальное восприятие вспомогательного средства[184].
Требуется ли нам разрешить спор, проверить факт или найти имя — трудно представить себе ситуацию, в которой мы бы не прибегали к помощи интернета. Платон одним из первых заметил, что изобретение письменности не способствовало улучшению человеческой памяти. Он всеми силами сопротивлялся тому, что Тевт, мифический изобретатель письменности, считал главным преимуществом своего изобретения. Платон с одобрением приводит ответ египетского царя Тамуса, которому Тевт демонстрирует письмена: «В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою». Всеобъемлющее присутствие интернета в любое время дня и ночи, независимо от места нашего нахождения, лишь подтверждает сказанное. Смартфон взял на себя роль нашей внешней памяти. Сколько людей полагаются на свой iPhone, вместо того чтобы запоминать номера телефонов, адреса или даже фамилии.
Значение памяти сложно переоценить. Ответ на вопрос, насколько качественно тот или иной носитель текста поддерживает память, тем более важен, когда мы читаем с явным намерением запомнить. Прежде всего это, разумеется, актуально для образовательной сферы. Тем не менее даже в образовании все меньше внимания уделяется изучению и закреплению знаний (по принципу just-in-case) по сравнению с поиском информации в нужный момент (just-in-time). Но разве для приобретения новых знаний не требуется их определенный запас? На что тогда их нанизывать?
В случаях, когда приходится заучивать материал наизусть (в отличие от осведомленности о том, где можно его найти), книга предоставляет поддерживающую память среду. Книга, в которой те или иные части текста находятся на одних и тех же местах, оказывается чрезвычайно полезной для нашего «географического» способа чтения: составления смысловой карты текста. Физическая книга на полке сохраняет не только текст, но и значительную часть смысла, придаваемого содержанию. Напоминая, к примеру, об обстоятельствах ее покупки или прочтения, а также вызывая ассоциации с теми или иными аспектами содержания. Исследования свидетельствуют о том, что цифровая среда менее эффективно поддерживает подобные связи.
Виртуальная природа цифрового текста подводит нас и к эмоциональной привязанности, которую люди часто испытывают к книгам и которая играет неменьшую роль в запоминании содержания. Почему мы так любим эти материальные объекты? Вы можете испытывать душевное родство с простенько изданной, но осязаемой книгой в мягкой обложке, прочитанной в отпуске. Когда вы ставите эту книгу на полку, она напоминает вам не только о сюжете, но и о сопутствующем моменте жизни. Эмоциональная связь с текстом ассоциируется с физической книгой. Устройство же для чтения могло бы в принципе напоминать вам обо всем, что вы когда-либо на нем читали, — а следовательно, ни о чем. Хорошо, но какой смысл подобной близости с физическими книгами? Ее невозможно измерить, но, так же как запах и ощущение веса в руке, она составляет часть неповторимого читательского опыта. По всей видимости, не случайно так называемые жанры одноразового потребления чаще всего потребляются в цифровом формате. Это не те книги, с которыми люди мечтают сродниться[185].
Первую скрипку при чтении играет внимание. В цифровом же мире процветает многозадачность. Все мы ее практикуем, хотя бы когда, читая, слушаем музыку. Если музыка звучит фоном, лишь изредка привлекая внимание, наш мозг не испытывает серьезных трудностей. Однако когда школьники пытаются следить за своими социальными сетями во время выполнения домашней работы, ему, мозгу, становится гораздо тяжелее. Что такое многозадачность? Это возможность одновременного реагирования на несколько раздражителей. Главная цель заключается в распределении внимания между различными задачами, которые вы хотите выполнить в один присест, чтобы повысить продуктивность[186]. При частом и быстром чередовании задач складывается впечатление, что они действительно выполняются одновременно. Однако исследования показали, что многозадачности как таковой не существует, так же как не существует и мифического цифрового поколения[187]. По существу, многозадачность — это последовательное распределение внимания между различными задачами.
По данным исследований, чтение с бумаги реже сопровождается многозадачностью, чем использование любых других медиа. В ходе исследования, проведенного среди студентов США в 2013 году, американская исследовательница Наоми Барон обнаружила, что 85 процентов из них пытались одновременно выполнить несколько задач, читая с экрана, по сравнению с 26 процентами читающих с бумаги. (В Германии показатели составили 79 и 31 процент соответственно.) Когда молодые люди садятся читать книгу, вероятность того, что они параллельно включат телевизор или станут слушать музыку, гораздо ниже, чем при потреблении всех прочих медиа. Тем не менее 27 процентов подростков в возрасте от 8 до 18 лет утверждают, что, как правило, используют при чтении еще один медиаисточник. Меньше всего многозадачность распространена на видеоигры — всего среди 22 процентов опрошенных молодых людей[188].
Любая смена задачи сопровождается потерей внимания. Прибегая к многозадачности в попытке сэкономить время под информационным давлением, мы в конечном счете теряем это время. Вдобавок, по данным исследований, качество чтения ухудшается: текст прорабатывается более поверхностно и, как следствие, хуже понимается. Полная сосредоточенность всегда приводит к лучшим результатам. Метаанализ эмпирических исследований ясно показал, что многозадачность отрицательно сказывается на понимании прочитанного при нехватке времени и является неэффективной при наличии неограниченного времени[189]. Поэтому для вдумчивого чтения, где внимание играет первостепенную роль, многозадачность фатальна. Кроме того, многозадачность вызывает стресс. Можно предположить, что ключевое значение приобре-тает личная ответственность за процесс чтения. Многозадачность разрушительна в первую очередь для образовательной среды. Однако важно отметить, что вероятность негативных последствий уменьшается по мере лучшей подготовки к одной из конкурирующих задач — в нашем случае, к чтению. В этом контексте образовательное учреждение стоит перед важным вызовом.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что для выживания в мире цифровых экранов требуются недюжинные усилия, и в первую очередь со стороны читателя, которому приходится подвергать критической оценке все, что встречается ему в интернете. Эти когнитивные усилия сопряжены с колоссальной сосредоточенностью и обостряют когнитивно-цифровое неравенство. Уже давно ведутся дискуссии об экономическом разделении мира на богатый Север и неимущий Юг. Бедный на цифровые ресурсы Юг сильно отставал от оснащенного компьютерами Севера. В последние годы повсеместное распространение мобильных телефонов и смартфонов несколько сгладило резкий контраст между ними. Формирующееся новое цифровое неравенство носит не экономический характер, а скорее когнитивный. И разделяет не Север и Юг, но наше собственное общество. Это неравенство порождает возрастающая личная ответственность пользователей экранов. Не все обладают необходимыми для осознания этой ответственности высокоразвитыми когнитивными способностями. В невыгодном положении оказываются люди с низким уровнем грамотности и, в более широком смысле, с низким уровнем образования. Тем самым именно эти уязвимые члены общества в наибольшей степени подвергаются дезинформации. Рассмотренный нами в предыдущей главе сценарий повторяется. Подобно тому как в XX веке телевидение конкурировало с чтением книг[190], прежде всего среди менее образованных людей, использование цифровых медиа сегодня приводит к схожему общественному разделению[191].