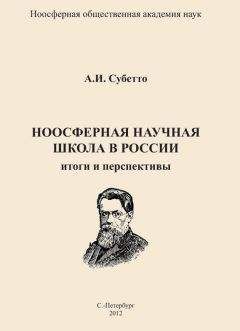Светлана Левит - Культурология: Дайджест №1 / 2011
Вторая важнейшая философско-антропологическая проблема, которую невозможно обойти стороной, связана с осмыслением человека в таких категориях, как «индивид» и «личность». Различение этих категорий стало одной из основных тем антропологической мысли с 30-х годов ХХ столетия. Оно приобрело особенную популярность благодаря трудам французских философов-персоналистов. «Идея различения индивида и личности, – пишет Карлос Вальверде, – возникла во Франции в период между двумя мировыми войнами. Французские персоналисты (Э. Мунье, Дени де Ружмон), а также неосхоластики (Ж. Маритен и др.) считали, что различение категорий “индивид” и “личность” может пролить свет на драму человеческого существования в ХХ в. Они увидели здесь ключ к объяснению многих социальных проблем и недугов, которыми страдало конфликтное и агрессивное европейское общество первой половины ХХ века». «То была эпоха великих диктатур, великих войн, громадных армий, концлагерей; эпоха мощного индустриального производства и победоносного материализма. И во всех этих ситуациях с человеком обращались как с индивидом, а не как с личностью». Доводы неосхоластиков в защиту различения между индивидом и личностью К. Вальверде резюмирует следующим образом: «Индивид есть часть целого и существует в виду целого, в то время как личность относительно независима от целого. Индивид существует для мира, а мир – для личности. Индивид закрытое существо, личность – открытое…»47
В системе европейских антропологических концептов понятие «индивид», кстати говоря, является очень важным показателем определенного культурного сдвига, связанного прежде всего с новоевропейским открытием «социального». Общеизвестно, что понятие «индивидуум» является своего рода калькой с греческого «атом». «Атом» по-гречески – «неделимый», и то же самое означало латинское «индивидуум». На протяжении Средних веков, да и в Новое время в философии понятие «индивидуум» по существу оставалось аналогом аристотелевской «усии», обозначавшей всякую вещь, обладающую самостоятельным статусом, отдельным от других вещей существованием. Человек в этом смысле точно такой же «индивид», как цветок или лошадь. Между тем позднее понятие «индивид» закрепляется именно за человеком. Это связано с новоевропейским открытием «материка социального», с формированием отчетливых представлений об «обществе» и осознанием человека преимущественно в аспекте его социальных отношений. Понятие «общество» формировалось через уяснение его оппозиции «государству». Но рядом с этой оппозицией теоретики общества широко используют еще одну оппозицию – различение общества и индивида. Сопутствующей стороной этого процесса оказывается то, что и «индивид» начинает пониматься через его отличие от общества, а не так, как это было прежде – как своеобразная выделенная часть природы… Тогда же, т.е. во второй половине XIX в., формируется языковое противопоставление индивидуализма коллективизму. Вслед за уже названной оппозицией индивида и общества оформляется противопоставление «индивид – личность»…
Для большей части ХХ в. проблема «индивид – личность» имела невероятно острое социально-политическое звучание: «индивидуалистическое обезличивание», с одной стороны, и «коллективистическое обезличивание» – с другой – два полюса социально-политического развития ХХ в., которые не могли не приковать к себе внимания философов и социологов, художников и писателей48. Вместе с тем характерен плодотворный парадокс: чем более насущной воспринималась проблема личности, тем решительнее интерес к ней преодолевал границы, связывавшие эту тему с актуальной социокультурной ситуацией, выводя исследователей в гораздо более широкое культурно-историческое пространство. Характерно, что проблема «индивид – личность» (в культурно-историческом плане впервые ясно обозначенная еще Я. Буркхардтом) стала одной из ключевых тем историко-культурных исследований. В связи с этим в пространстве гуманитарного знания возникло множество довольно интересных и далеко не схоластических вопросов: В каждой ли культуре существует «личность»? Каждая ли культурная традиция способствует формированию «личностного начала»? Знакомо ли понятие личности архаическим и восточным культурам, а если нет, то можно ли отсюда заключить, что и сама личность в пространстве ряда культур еще отсутствует? И вообще, когда в истории европейской культуры, например, начала формироваться личность? Случилось ли это в эпоху Возрождения или все же могло произойти несколько раньше?
Надо сказать, что обращение к историко-культурным исследованиям способствовало как лучшему уяснению различий между «личностным» и «индивидуальным», так и снятию остроты их противопоставления, что было столь характерно для философов-персоналистов. С одной стороны, историко-культурные исследования показывали, что два этих понятия – «индивид» и «личность» – не нужно смешивать, как это сравнительно недавно сплошь и рядом делалось49. С другой стороны, выяснилось, что «индивидуализм», постоянно привлекаемый к объяснению целого ряда феноменов различных эпох, может иметь разное содержание. М. Фуко предлагает различать три аспекта индивидуализма: во-первых, позицию, наделяющую индивида в его неповторимости абсолютной ценностью и приписывающую ему высокую степень независимости от группы, к которой он принадлежит; во-вторых, повышенную оценку частной жизни, а также форм домашней деятельности и сферы патримониальных интересов; в-третьих, интенсивность отношения к себе, внутренних связей с самим собой – т.е. все то, что Фуко назвал «культурой себя». «Известны общества и социальные группы, где индивидуум вынужден утверждать свою ценность, совершая действия, которые выделяют его, но при этом его частной жизни и отношению к себе не придается сколько-нибудь существенного значения. Но есть и такие общества, в которых отношение к себе интенсивно и развито, а тенденция к повышению ценностного статуса индивида – отсутствует…»50
В связи с обсуждением проблемы личности в философской, социальной и культурной антропологии XX в., в связи с тем, что названная тема, как уже было сказано, получила развитие в историко-культурных исследованиях, особое значение приобрели работы филологов, нацеленные на изучение соответствующей персонологической «терминологии». Мы не будем сейчас вдаваться в историю европейской персонологии – в историю терминов и понятий, которыми обозначалась личность. Тем не менее исследовательские парадоксы в этой сфере необходимо отметить. Замечено, что даже в такой ориентированной на развитие индивидуальности культуре, какой является культура классической Греции, понятие, близкое нашей теперешней «личности», еще отсутствует. Греческое соответствие латинскому persona – προσωπον – не является обозначением личности. В философском словаре Античности, замечает Хавьер Субири, полностью отсутствовало понятие и само слово «личность». В связи с этим испанский философ высказывает заключение, что греческой метафизике была присуща «фундаментальная и непоправимая персонологическая ограниченность»51. Примечательно, что вывод о непоправимой ограниченности греческой метафизики приобретает обобщающий культурный характер, он затрагивает не только метафизику, но и античного человека в целом. Отсутствие понятия «личность» в литературе и философии оказывается показателем отсутствия личности в древнегреческой культуре. В связи с этим стоит напомнить позицию Ж.П. Вернана, которая представляется нам более выверенной: «Нет и не может быть совершенной модели индивида, абстрагированной от хода истории человечества… Поэтому цель исследования состоит вовсе не в том, чтобы установить, существовала ли индивидуальная личность в Древней Греции или нет, – но в том, чтобы попытаться обнаружить, чем была древнегреческая личность и как ее различные характеристики отличаются от того типа личности, который известен нам сегодня»52.
Поскольку слόва «личность» в древности не существовало (не только греческое πρόσωπον, но и латинская persona имеют мало общего с современным понятием о «личности»), нас подводят к заключению о том, что и личности «как бы» не было. Если предмет не поименован, не назван, то он и не существует в поле культурного сознания. Но ведь с не меньшим основанием можно указать и на то, что понятия, близкого нашей «природе», у греков, например, тоже не существовало. Или на то, что в греческой архаике, включая Гомера, отсутствует, еще как бы не найдено слово для обозначения «мира как целого»… Хочется спросить, что же, однако, изо всего этого следует? Мы располагаем рядом интересных наблюдений, касающихся истории формирования ряда очень важных для современного человека концептов. В свое время В. Ярхо опубликовал статью с броским названием «Была ли у древних греков совесть?», в которой утверждал, что концепт «совесть» для греческой архаики нерелевантен, что, фигурально выражаясь, «стыд» у греков был, а вот «совести» еще не было53. Как и в случае с «личностью», это очень интересная ситуация, порождающая массу вопросов. Если, скажем, обращаясь к материалу античной лексики, мы не находим там слова, соответствующего нашему концепту «культура», то что отсюда будет следовать: должны ли мы сделать заключение о несуществовании самой культуры, или придется ограничиться предположением об отсутствии соответствующего современному представления «о культуре»?!