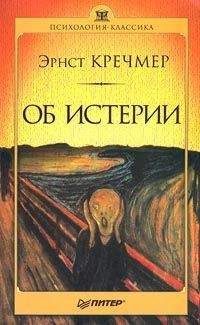Ренате Лахманн - «Истерический дискурс» Достоевского
7
Следуя за этой далеко идущей аналогией, легко упустить из виду мысль самого Достоевского. Если бы главным для него являлось то, что Л. Сараскина называет «одолением демонов» (подзаголовок ее монографии), Ставрогин был бы победителем и указанная аналогия оказалась бы совершенно ошибочной. Однако внутренняя логика дискурса истерии в романе и его многочисленные вербальные импликации, причудливо сочетающиеся с библейским текстом (эпиграф и цитата), задают ощущение двойного краха: ни душа, ни «Psyche» не исцелены. Актеры/пациенты, психическое расстройство которых неотделимо от их греха, не находят избавления. В то же время сугубо психоаналитическая и медицинская трактовка симптомов преодолевается в понятии экстаза. Воспользуемся примером из «Бесов». Здесь состояние экстаза предшествует эпилептическим приступам, сопровождая истерические припадки, нервные срывы, приступы бешенства, антропотеологические рассуждения Кириллова, безнадежный поиск Шатовым веры в Бога-творца. Протагонисты или сами провоцируют своего рода ритуальный экстаз, или попадают под его воздействие. В ощущениях нервозности, от которых временами страдает Степан, в экзальтации Варвары, ставрогинских выходках, безумных гомоэротических признаниях Петра, нравственном крушении Лямшина и Вергинского, чрезмерном возбуждении Марии присутствуют моменты душевного экстаза. Этот экстаз описывается упоминавшимся выше термином «исступление», означающим состояние «вне себя» в смысле мистического разрыва или восторга. Экстаз предстает одновременно как разрушение значения (смысла) и стремление к его обретению. Экстаз — это выход из обособленности эго, из времени-пространства или, точнее, из хронотопа эго, разрыв цепи причинности и семантических отношений.
Об экстазе, о бытии «вне себя», свидетельствуют и цитированные высказывания эпилептиков Достоевского: экстаз переносит страдающего в нереальную сферу (или в инобытийную реальность), где он испытывает мгновения невыразимого счастия. Больной в течение несколько секунд как бы участвует в чем-то окончательном. «Затем вдруг как бы что-то разверзлось пред ним: необычайный внутренний свет озарил его душу». Выражениями «гармония» и «внутренний свет» Достоевский цитирует язык мистики. Наблюдатель припадка как-будто участвует в происходящем: «Вид человека в падучей производит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое» [Идиот: 2,4]. Квазимонолог Кириллова, «вселенского бунтаря», является пересказом мистического опыта словами человека XIX века: «есть секунды, их всего зараз приходится пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии… Ее ли более пяти секунд-то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю жизнь, потому что стоит» [Бесы: 450]. Мышкин испытывает «какое-то высшее спокойствие, полное ясной гармоничной радости… неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни» [Идиот: 188]. Он сообщает собеседнику: «мне как-то становится понятно необычайное слово и о том, что времени больше не будет» [Идиот: 189]. В терминологии Р. Я. Клеймана, опыт Кириллова может быть определен как «пространственно-временной сдвиг». Клейман подчеркивает при этом космический аспект «упования на мировую гармонию», его «вселенский хронотоп» [Клейман 1985: 33]. Именно этот вселенский хронотоп характеризует и женский дискурс мистики. Риторика мистики является риторикой непередаваемости ощущения или откровения Другого; это — риторика языкового предела основывающаяся на парадоксе выражения невыразимого [Peters 1988].
Эпилепсия отличается в данном случае от истерии, но религиозный момент присутствует и в ней, а именно в кликушестве. Алеша вспоминает свою молящуюся мать: «он запомнил… пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою… ее лицо было исступленное, но прекрасное» [Братья Карамазовы: 21]. Рассказчик уведомляет читателя о «нервной женской болезни [Софьи Ивановны], встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб… от этой болезни со страшными истерическими припадками, больная временами даже теряла рассудок» [Братья Карамазовы: 9,16][7]. С Алешей сделался истерический припадок после циничного рассказа отца о покойной кликуше. Во время припадка он необычайно похож на мать. (Припадок Алеши связывает истерику с кликушеством.) Кликушество рассматривается как эквивалент религиозной истерии, характеризующейся предельным восхищением и исступлением. Сопоставление истерии («нормальных») женских протагонистов в произведениях Достоевского с кликушеством интересно в том отношении, что оно позволяет соотнести простонародную «русскую» болезнь с болезнью, восходящей к античности, но сделавшейся модным объектом изучения в медицинских и психологических исследованиях XIX века. Крик, визг, хохот, неестественный смех, рыдание, скороговорка, крайнее беспокойство, обморок, падение навзничь — характеристические признаки истерического припадка. Истерические аномалии выявляются в голосе, жестикуляции, поведении. Схожие признаки упоминаются и при описании кликушества — взвизгивания, вскрикивания, жесты (она обнимала сына «крепко до боли»). Достоевский не проводит этого сопоставления последовательного дает основание думать, что отчаянное восхищение простонародной женщины и тайная печаль светских дам, о которой рассказчик упоминает, являются религиозными и нерелигиозными вариантами одной и той же болезни.
В русском языке греческому слову «эпилепсия» соответствует термин «падучая». Греческое название, с одной стороны, и народно-русское — с другой, будучи вполне синонимичными, обнаруживают разные аспекты в именовании болезни. В «падучей» слышится ряд со слов со значением «падения» (ср. нем. Fallsucht). Эпилепсия звучит более возвышено, несмотря на всю внешнюю феноменологию болезни, — судороги, крики и гримасы. Остается догадываться, насколько чуток был Достоевский к семантическим оттенкам в синонимии «эпилепсии» и «падучей».
Мышкин описывая свои ощущения, называет болезнь равно «эпилепсией» и «падучей». Ощущение высшей реальности испытывают Кириллов и Мышкин перед падучей, Елена и Смердяков переживают только «падение» (буквально — падая оземь или вниз по лестницы в погреб). Падучая как будто выворачивает наизнанку возвышенное ощущение гармонии и безвременности перед приступом эпилепсии — «вселенский хронотоп» обращается в хронотоп мучительной временности. Молниеносный взгляд в вечную гармонию, видение «внутреннего света» уничтожаются возвращением в телесное. Спасения в эпилепсии нет.
8
Кроме экстатического момента эпилептики и истерики почти всегда наделяются атрибутами юродивого или шута, которые, как показал Клейман, «постоянно находятся у Достоевского в одном семантическом ряду»[8]. «Юродство есть некая ипостась шутовства, и наоборот» [Клейман 1985: 63][9]. Здесь функция притворства снова оказывается значимой. «Настоящие» юродивые имеют вид помешанных, причем их притворство служит духовному самосовершенствованию. «Псевдоюродивые», изображая из себя помешанных, наоборот, пользуются притворством. Притворство в обеих функциях не существенно для «юродства» истерических и эпилептических героев Достоевского. Они предстают как слабоумные, отличающиеся от прочих людей прозорливостью, загадочной невнятицей (такова, например, Мария Лебядкина) и «святой простотой» (sancta simplicitas)[10].
Катерина Ивановна обращается к Алеше Карамазову со следующими словами: «Вы… вы… вы маленький юродивый» [Братья Карамазовы: 175]. Именование Мышкина «идиотом» дополняется прозваниями «юродивого» и «шута». Рогожин, характеризуя Мышкина, говорит: «совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит» [Идиот: 14]. Генеральша Епанчина называет его «шутом». Таким образом, в слове «идиот» возникают не свойственные ему семантические нюансы. Появление юродивых, карнавализованных святых и шутов всегда театрально. Для нас интересен именно момент театральности, который, как было сказано выше, является составной частью истерии и эпилепсии. Истерические и эпилептические припадки — это прежде всего спектакли для свидетелей-зрителей и свидетелей-слушателей. Не случайно, что для Мышкина невыносима сама мысль, что с ним случится припадок на публике. В сценариях необычайных (привлекательных и отпугивающих) происшествий зрители играют неоднозначную роль. Косвенным образом они вовлечены в «самообнажение» и «самоискажение» пациентов-актеров, а их взгляд на эксцентричное поведение больных предстает как сострадающим, так и вуайеристическим. Истерические поступки вызывают реакции, инсценированные в салоне Варвары Петровны, в квартире Катерины Мармеладовой после похорон мужа или в зале суда и саркастически прокомментированные рассказчиком: «да, полагаю, что наши зрительниц дамы остались довольны: зрелище было богатое» [Идиот: 203].