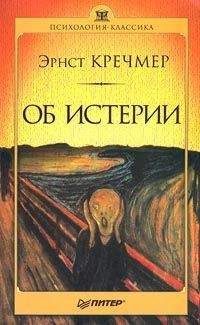Ренате Лахманн - «Истерический дискурс» Достоевского
В то время как протагонисты, определяя симптомы, называют их своими именами, диагнозы докторов зачастую строятся на соматических объяснениях. Так, например, в оправдание нарушения Ставрогиным социальных поведенческих норм доктор констатирует повышение температуры и белую горячку, снимающую с него ответственность за историю с носом Гаганова и другие возмутительные выходки. В случае Степана Верховенского доктор, забавно именуемый Зальцфишем (в ознаменование его немецкого или немецко-еврейского происхождения[5]), призван установить телесное состояние пациента. Заключение врача сугубо медицинское: Степан стал жертвой холеры — никаких намеков на нервное потрясение. Анализ психического состояния/расстройства опирается, однако, не столько на знания врача, сколько на интуицию неискушенных в медицине героев. Похоже, что все они способны тонко чувствовать душевные состояния друг друга, отмечая (хладнокровно или с состраданием) внезапные смены настроения или образа мысли, наделяя смыслом такие проявления, как хихиканье, крики, смех, немота или резкие движения.
Не только хроникер (и его двойник: всезнающий повествователь), но и все действующие лица участвуют в дискурсе истерии. Анализируя и наблюдая друг друга, они пользуются лексикой, обозначающей болезненные психические состояния: нервные припадки, бред, белая горячка, бешенство, безумие, исступление, бытие вне себя, экзальтация, сумасшествие, падучая болезнь, истерика. Хроникер ссылается на слова Лизаветы, комментирующие поведение Марии Лебядкиной после сцены в соборе: «Лиза сказывала мне потом, что Лебядкина смеялась истерически все эти три минуты переезда… и Варвара Петровна сидела как будто в каком-то магнетическом сне» [Бесы: 168]. Варвара Петровна замечает «необычайное волнение Лизы», которая «быстро и отчаянно прошептала… на ухо Варваре Петровне», Петр Верховенский шепнул хроникеру, анализируя необычайную взволнованность Лизы: «истерика» [Бесы: 210]. Поведение Ставрогина связывается другими наблюдателями, т. е. хроникером и Липутиным, с помешательством: «/он/ помешан»;это «случай психологический» [Бесы: 108]. Лебядкина в суждении других — «помешенная», «сумасшедшая» [Бесы: 103]. Лизавета, по словам хроникера, «все была в хаосе, в волнении, в беспокойстве»; подчеркивается «ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство» [Бесы: 117]: она «была совершенно поражена, даже как-то совсем не в меру» [Бесы: 142], «она была в совершенном исступлении» [Бесы: 202]. Самоуверенная женщина (Бисмарк, деспот) едва ли верит в то, что ее опека была в чем-то недостаточной. «Демон иронии» овладел не только Ставрогиным, но также Варварой, хвалящей безупречный характер поступков сына: «неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма» [Бесы: 203]. Ставрогин сам, с примесью свойственной ему иронии настаивает на своей «репутации» помешанного [Бесы: 208]. Петр обращается к отцу: «не кричи… поверь, что все это старые, больные нервы» [Бесы: 216]. Интересен и психологизм хроникера-наблюдателя, который, подобно психологу (в отличие от всезнающего повествователя), не знает «что было внутри человека» [Бесы: 219], поскольку он смотрит — и видит — извне одни симптомы. Диагноз Ставрогина фокусируется на его «злобе»: эта злоба «холодная, спокойная… разумная… самая отвратительная, и самая страшная, какая может быть» [Бесы: 219]. «Безо всякого ощущения наслаждения»: диагностик-моралист сравнивает злобу Ставрогина с душевным состоянием предшествующего поколения, к которому он причисляет людей типа «декабриста» Л. Современное поколение характеризуется им как больное: «нервозная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали иные, беспокойные в своей деятельности, господа доброго старого времени» [Бесы: 218]. Констатируя потерю непосредственности в переживании, хроникер является психологом общества, аналитиком современности.
3
Очевидно, что феномен истерии толкуется Достоевским неоднозначно. С одной стороны, он относится к ней как к психической болезни, а с другой — как к проявлению общей нервозности (утрированности, раздраженности, переувеличенности чувств и идей, беспокойства, эксцентричности). Понятие «истерика» характеризуется при этом множеством семантических оттенков — от драматических до комических. В выражениях «припадок», «удар», «безумие», «бред», «белая горячка», «аффект», «исступление», «мания», «обморок», «беспамятство» и т. п. семантическая окраска ключевого понятия еще более усиливается. Комический эффект возникает, когда предложения типа «с нею сделалась истерика» употребляется вне указания на какую-либо патологию. «Ха, ха, ха, ха, ха! — Дама металась из стороны в сторону на диване от смеха. — Боже мой, со мной сделается истерика! Ох, какой смешной!., кхи, кхи, кхи! Смешной…» [Чужая жена или муж под кроватью]. То же самое предложение «и с нею сделалась истерика» в «Игроке» имеет противоположное значение. Здесь наречие «истерически» служит обозначением характера нетерпеливой женщины: «Иногда она задавала этот вопрос и Ивану Федоровичу, и, по обыкновению своему, истерически, грозно, с ожиданием немедленного ответа» [Игрок: 331].
В «Братьях Карамазовых» подход к феномену разнообразнее, чем в «Бесах», так как слово, вплетающееся в комментарий других участников дискурса, предоставляется самой медицине, а именно — физиологам. Хохлакова истолковывает истерику как серьезную болезнь. Пользуясь соответствующей лексикой, она сообщает: «истерика Катерины Ивановны кончилась обмороком, затем наступила ужасная, страшная слабость, она легла, завела глазами и стала бредить. Теперь жар, послали за Герценштубе». Смешная фамилия доктора-немца («сердечная каморка») нисколько не смягчает произошедшее. Алеша «рассказывал ему [Ивану] об истерике, и о том, что она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреду». Иван холодно комментирует: «От истерики впрочем никогда и никто не умирал. Да и пусть истерика. Бог женщине послал истерику любя». Саркастический комментарий Ивана воспроизводит при этом не только общий предрассудок эпохи, но и убеждение психологов в гендерной специфике неврозов. Истерические припадки в произведениях Достоевского совершаются всегда в случаях душевных потрясений, неслыханных переживаний, грозящихся катастроф и т. п. Женщины используют соответствующие припадки с тем, чтобы избежать ответственности и вместе с тем оказаться в центре общественного внимания. Театральный аспект подробно описанных инцидентов никак не затушевывается. В современных Достоевскому психологических теориях в описаниях истерики подчеркивались элементы притворства. У Достоевского притворство свойственно, однако, не только женщинам, но и мужчинам слабого характера. Из внутреннего монолога подпольного человека явствует, что его истерический припадок не совсем искренен: «но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти… я начал помаленьку… но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть» [Записки из подполья]. Тем не менее во взрывах души допускаются и мгновения крайнего отчаяния и скорби (Лизавета, Виргинский). Интересны наблюдения рассказчика в «Униженных и оскорбленных» по поводу истерики Нелли. С одной стороны, он подчеркивает театральный аспект истерического поведения женщин, с другой — настаивает на искренности эмоционального срыва и его тайных причин: «женщины… начинают плакать самыми искренними слезами, а самые чувствительные из них даже доходят до истерики. Дело очень простое и самое житейское и бывающее чаще всего, когда есть другая, чисто никому не известная печаль в сердце и которую хотелось бы, да нельзя никому высказать» [Униженные и оскорбленные: 254]. Устами своего рассказчика Достоевский формулирует в данном случае существенную для психоанализа идею. Истерика предстает симптомом неизвестной печали, т. е. «травмы» или «травматических переживаний» в терминологии Бройера и Фрейда [Freud 1896][6]. Хотя истерика перешагивает гендерные границы в произведениях Достоевского, на первый взгляд кажется, будто «настоящие» истерические припадки мучат преимущественно женщин, тогда как мужчины страдают эпилепсией или являются одержимыми фанатиками. Выясняется, впрочем, что это не совсем так. Эпилептическим припадкам подвержены как мужчины, так и женщины, но в последних случаях эпилепсия выступает эквивалентом истерии.
4
В отличие от истерии эпилепсия — болезнь, традиционно наделявшаяся возвышенно-духовными коннотациями (святая болезнь, morbus sacer). Припадками эпилепсии случались с выдающимися мужами — историческими и мифологическими героями, а симптоматика эпилепсии изучена лучше, нежели симптоматика истерии. Персонажам Достоевского свойственны симптомы, предшествующие эпилептическим припадкам, а именно моменты совершенной гармонии и экстатического счастья. Вместе с тем Достоевский никогда не упускает из виду отвратительную телесную сторону падучей болезни. Подробное описание психосоматического состояния эпилептика Мышкина вскрывает замкнутую, непостижимую область душевных и физиологических переживаний и ощущений. Их протоколированная фиксация в стиле «внутреннего отчета» посвящена всем стадиям эпилептического процесса: предчувствию и самоощущению страдающего, его мгновенно изменяющимся телесным и душевным восприятиям и в конце концов его парадоксальному обсуждению болезни после припадка в здоровом состоянии. Дискурс здесь не сводится к формулам и стереотипам (как иногда в случае истерики). Он построен так, что названия симптомов не взяты из медицинского и психологического словаря, т. е. они терминологически свободны. Таким образом развивается беспокойная, тревожная картина крайних переживаний одного индивида, его экстатических и унизительных опытов. Хотя самоописание субъективно, кажется возможным увидеть в нем авангардистскую трактовку болезни и тем самым установить его объективное значение. Об этом же, как кажется, свидетельствует и фрейдовское толкование эпилепсии на примере «Братьев Карамазовых» ([Фрейд 1969]; написано в 1928 году).