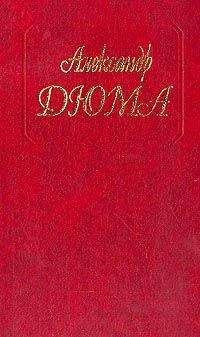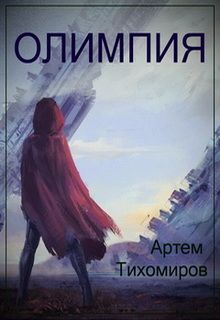Игорь Сухих - Русский канон. Книги XX века
История литературы знает, однако, «комедии», далеко выходящие за пределы комического: «Человеческую комедию» или комедию, получившую определение «Божественной». По поводу авторского определения жанра с Чеховым объяснялся уже Станиславский: «Для простого человека это трагедия».
На первый взгляд, не говоря уже о Епиходове или Симеонове-Пищике, комизм поведения которых на поверхности, линии Раневской и Гаева выстроены таким образом, что их искренние переживания, часто попадая в определенный контекст, приобретают неглубокий, «мотыльковый» характер, иронически снижаются.
Взволнованный монолог Раневской в первом действии: «Видит Бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала», – прерывается резко бытовым, деловитым: «Однако же надо пить кофе».
Чехов заботится о том, чтобы не остаться непонятым. Во втором действии этот прием повторяется. Длинная исповедь героини («О, мои грехи…») завершается таким образом:
«ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. …И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей… (Утирает слезы.) Господи, Господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше! (Достает из кармана телеграмму.) Получила сегодня из Парижа… Просит прощения, умоляет вернуться… (Рвет телеграмму.) Словно где-то музыка. (Прислушивается.)
ГАЕВ. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас.
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок».
Звуки музыки помогают Раневской быстро утешиться и обратиться к вещам более приятным.
Точно так же в третьем действии, в сцене возвращения с торгов, гаевское «Столько я выстрадал!» существенно корректируется иронической авторской ремаркой: «Дверь в бильярдную открыта; слышен стук шаров… У Гаева меняется выражение, он уже не плачет».
Как страус прячет голову в песок, люди пытаются спрятаться от больших жизненных проблем в бытовые мелочи, в рутину. И это, конечно, смешно, нелепо.
Но в пьесе легко увидеть и обратное. Не только трагедия или драма часто превращаются в фарс, но и сквозь водевильность, комизм, нелепость вдруг проглядывает лицо драмы или трагедии.
В финале «Вишневого сада», расставаясь с домом навсегда, Гаев не может удержаться от привычной высокопарности: «Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо…» Его обрывают, следует привычно-сконфуженное: «Дуплетом желтого в середину…» И вдруг: «Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь…»
Чувство вдруг вырвалось из оков затверженных стереотипов. В душе этого человека словно зажегся свет, за простыми словами обнаружилась реальная боль.
Практически каждому персонажу, даже самому нелепому (кроме «нового лакея» Яши, постоянно и безмерно довольного собой), дан в пьесе момент истины, трезвого сознания себя. Оно болезненно – ведь речь идет об одиночестве, неудачах, уходящей жизни и упущенных возможностях. Но оно и целительно – потому что обнаруживает за веселыми водевильными масками живые страдающие души.
Особенно очевиден и парадоксален этот принцип в применении к наиболее простым, казалось бы, персонажам «Вишневого сада». Епиходова каждый день преследуют его «двадцать два несчастья» («Купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности»; «Сейчас пил воду, что-то проглотил»). Все силы Симеонова-Пищика уходят на добывание денег («Голодная собака верует только в мясо… Так и я… могу только про деньги… Что ж… лошадь хороший зверь… лошадь продать можно…»). Шарлотта вместо обязанностей гувернантки постоянно исполняет роль домашнего клоуна («Шарлотта Ивановна, покажите фокус!»).
Но вот последний монолог потомка «той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате»: «Ну, ничего… (Сквозь слезы.) Ничего… Величайшего ума люди… эти англичане… Ничего… Будьте счастливы… Бог поможет вам… Ничего… Всему на этом свете бывает конец… (Целует руку Любови Андреевне.) А дойдет до вас слух, что мне конец пришел, вспомните вот эту самую… лошадь и скажите: “Был на свете такой, сякой… Симеонов-Пищик… царство ему небесное”… Замечательнейшая погода… Да… (Уходит в сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях.) Кланялась вам Дашенька! (Уходит.)». Этот монолог – своеобразная «пьеса в пьесе» со своим текстом и подтекстом, с богатством психологических реакций, с переплетением серьезного и смешного.
Аналогично строится монолог Шарлотты в начале второго действия. Она ест огурец и спокойно размышляет об абсолютном, тотальном одиночестве человека без родины, без паспорта, без близких: «Все одна, одна, никого у меня нет и… кто я, зачем я, неизвестно…» Если это эксцентрика, то драматическая, ничуть не более смешная, чем реплика Астрова о жарище в Африке в «Дяде Ване». Сходное чувство вдруг обнаруживается в монологах недотепы Епиходова, проглядывается сквозь «галантерейные» словечки и бесконечные придаточные. «Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер».
Ведь это гамлетовское «быть или не быть», только по-епиходовски неуклюже сформулированное!
Внешнему сюжету «Вишневого сада» соответствует привычная для реалистической драмы, и Чехова том числе, речевая раскраска характеров: бильярдные термины Гаева, студенческо-пропагандистский жаргон Трофимова, витиеватость Епиходова, восторженность Пищика. Но на ином уровне, во внутреннем сюжете возникает общая лирическая стихия, которая подчиняет себе голоса отдельных персонажей.
«Вы уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Милая моя!.. Заждались вас, радость моя, светик…
Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные трогательные глаза глядели на меня, как прежде…
Какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!..
О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя…»
Где здесь служанка, где купец, где барыня? Где отцы, где дети? Реплики организуются в единый ритм стихотворения в прозе. Кажется, что это говорит человек вообще, вместившая разные сознания Мировая душа, о которой написал пьесу герой «Чайки». Но в отличие от образа Треплева, романтически-абстрактного, безграничного («Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки»), «общая Мировая душа» героев «Вишневого сада» четко прописана в конце XIX века.
Свидетельство тому – не только исторические детали внешнего сюжета, но сам ритм существования чеховских персонажей, пульсация их коллективной души. Самое интересное в них – парадоксальность, непредсказуемость, легкость эмоциональных переходов, резкое сближение полюсов.
Чеховских героев любили называть «хмурыми людьми» (по названию его сборника конца 1880-х годов). Может быть, более универсальным и точным оказывается другое их определение – нервные люди.
В русских толковых словарях слово «нервный» появилось в начале XIX века. Но литературе оно практически неведомо. У Пушкина «нервный» встречается только однажды, да и то в критической статье; еще по разу – «нервы» (в письме) и «нервический» (в незаконченном «Романе в письмах»). Но дело, конечно, не в слове, а в свойстве. Нервность – вполне периферийная черта у Пушкина и его современников, лишь изредка мелькающая в характеристике отдельных персонажей (скажем, сентиментальной барышни). Сам же мир, в котором существуют герои Пушкина, Гоголя, потом Гончарова, Тургенева, Толстого, может быть трагичен, но стабилен, устойчив в своих основах. (В особом положении Достоевский, которого Чехов не любил, но который в данном случае оказывается его непосредственным предшественником.)
И вдруг все вздрогнуло, поплыло под ногами. Крик, истерика, припадок стали не исключением, а нормой.
«Как все нервны! Как все нервны!» – ставит диагноз доктор Дорн в «Чайке».
«…Он чувствовал, что его полубольным, издерганным нервам, как железо магниту, отвечают нервы этой плачущей, вздрагивающей девушки», – описывается любовь героев «Черного монаха».
«Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем», – пробуждается «учитель словесности» от спокойного сна будничного обломовского существования.
«Сердце, как следует… все обстоит благополучно, все в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать», – советует доктор в рассказе «Случай из практики» наследнице пяти громадных заводских корпусов. Но заснуть его пациентке все-таки не удается, и в длинном задушевном ночном разговоре доктор расширяет и обобщает диагноз: «У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет».