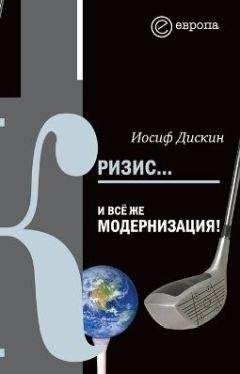Сергей Максимов - Лесная глушь
Петра Артемьева, записавшегося в галицкую артель, теперь уже трудно отличить в ряду остальных рабочих: он или засел внутри дома на потолочный, брус и, мурлыкая себе под нос деревенскую песню, тяпает топором по брусу, или прилаживает доску к забору и сглаживает ее рубанком, если доска эта приходится клином и забор просвечивает. Петр Артемьев еще добросовестен в работе, по деревенским обычаям, где любят тепло и плотно, и не привык (но скоро привыкнет, по неизменным законам природы) к петербургским работам на «авось, небось да как-нибудь». Может быть, даже он послан подрядчиком и на Неву — сваи вбивать, и все-таки его трудно отличить в той толпе, которую не в редкость видеть петербургскому жителю, гуляющему по набережным.
Толпа этих рабочих-мужиков ухватилась дружно за длинные концы веревок, привязанных к огромному рычагу. Толпа эта несколько времени стоит молча, как бы собираясь с духом и выжидая сигнала, — и вот из средины ее раздался бойкий звонкий голос запевалы, и вся рабочая сила, дружно подхватив на первом же почти слове следующий громкий припевок, оглашает широкую, черную поверхность Невы:
Что-то свая наша стала?
— Закоперщика не стало.
Эх, ребята, собирайся,
За веревочку хватайся!
Ой, дубинушка, ухнем!
Ой, зеленая сама пойдет,
Ухнем!!!
Ух! уx! уx!
Немедленно вслед за песней раздается звяканье толстой цепи, и огромный молот падает несколько раз на сваю, далеко углубляя ее в рыхлую болотистую землю.
Стоит только прислушаться к переливам этой песни, чтоб безошибочно решить, что песня эта принесена сюда с Волги, что она сродни с «Вниз по матушке по Волге», но далеко не имеет ничего общего с плаксивой петербургской песней:
Как на матушке, на Неве-реке,
На Васильевском славном острове,
и пр.
Особенно доказывают это смелые переливы песни, рассчитывающие на громкое вторенье эха, которым так богаты гористые берега реки-кормилицы. Наконец, наглядное доказательство тут же, налицо: стоит только выждать, когда заговорят между собою работники, наречие которых любит букву о, переходящую даже на букву у, и, наконец, эта певучесть со странным переносом ударений всегда ясно отличает говор костромича от говора других соотечественников. При том же костромич несловоохотен, как будто груб в ответах с первого взгляда, но затронутый — разговорчив и откровенен. В этом он далеко перещеголяет белотельца-ярославца.
* * *Несколько исключительное значение Петра Артемьева в артели объяснилось вскоре. Случай к тому был весьма прост и немногосложен: одному плотнику понадобилось написать письмо в деревню, а идти в полпивную, где уже почти всегда сидел присяжный писака, не хотелось.
— Да и рожон бы ему острый! — говорит плотник, — без пары пива не садится, да еще гривенник дай, а то не запечатает и не напишет, куды письму идти следно.
Петр Артемьев вызвался помочь горю.
— И впрямь, Петруха, садись-ко! Эдак-то мы к тому чихирнику-то и ходить не станем. Садись: я тебе пятачок дам.
— За что пятачок? — я и так, даром.
— За что даром: даром-то, сам, брат Петруха, знаешь, — и чирей, слышь, не садится.
Представилось маленькое затруднение: у писца не было ни чернил, ни пера, ни бумаги, но проситель нашелся лучше его: доставши шапку, он пошел по всем собирать на артельные чернила и чернильницу, перья и бумагу. Складчина по копейке серебром с брата — материал готов, и к тому же артельный.
С этих пор у Петрухи нежданно-негаданно явилась другая работа и лишняя копейка, которою он успел рассчитаться начисто с долгами артельными. Все потянулись к нему с просьбами, до бесконечности разнообразными и оригинальными.
Один пришел к нему и бойко начал:
— Ну-ко, Петруха, садись! и напиши ты мне, братец ты мой, такую грамотку, чтобы затылки все в кровь расчесали…
— Что же так больно страшно?
— А вот видишь ты, разумный человек: хозяйка у меня молодая, дома-то две зимы не был — обрадовалась, и дошли до меня, к примеру, эти самые слухи, что она, примерно, баловать стала. Накажи, Петруха, обругай ее, я, мол, крепко серчаю, и так, мол, что приду на зиму — дом верх ногами поставлю. Вишь, там на станциях нынче писарей завели, а дорога-то по нашей деревне напрорез пошла, а ребята-то все холостежь, — что волки, значит.
Петруха, сколько мог, удовлетворил желанию.
— Да ты бы завертки-то покрепче… эдак, чтобы жарко было, чтобы так всех в слезы и положить: пусть измываются.
— Нельзя же ведь так в письме-то, как говоришь: так ведь не напишешь, не выйдет…
— Ну, ты лучше знаешь: твое дело грамотное, а мы вахлаки — всяко-то по-твоему не разумеем. Слышь!.. хошь, напою пивом, алибо водки куплю?
— Нет, спасибо: знаешь — не принимаю.
— То-то, паря, дуришь! Не по-нашему, не подходяще ты делаешь. Ну, так считай за мной гривенник: грамотку-то ловко настрочил. Молодец ты, брат, у нас, Петруха! золото, серебро. Братцы, кто хочет письма писать, ступайте: Петруха с пером сидит.
— И впрямь, Петруха, напиши-ко зауряд уж и мне.
— Сказывай, как надо.
Петруха, при последних словах, обыкновенно настороживал уши, выслушивал бестолковую, отрывистую болтовню, из которой привык составлять нечто толковое, знакомясь таким образом с семейными тайнами каждого товарища, у которых не было на это завету.
— Пиши попервоначалу поклоны: батюшке, матери, дяде Демиду, тетке Офимье, ребятенкам; Гришутке, Параньке…
— Ну, да как следует, ведь уж знамо. Сказывай имена-то только да какая родня кто, потому и писать станем: коли, теперича, отец либо брат, то низкие поклоны с почтением, а ребятенкам и жене родительское благословение навеки нерушимо, и опять — низко кланяюсь.
— Ну, ну, ну так так! Экой, свет, толковый! А потом пиши, братец ты мой, что вот, мол, посылаю деньги, мол, посылаю… на оброшное. А останки поделите: рубль жене на платки да батюшке с матушкой; а повремените маленько время спустя — еще вышлю.
Петруха уже давно писал, до подробности зная остальную историю на подобные письма. У него в голове давно уже сложилась форма, и не осмелится он изменить ее до конца жизни, как не изменили и прежде бывшие писцы, от которых досталась она ему по наследству, вместе с грамотностью. Несколько затрудняли его на первых порах неожиданности вроде первой, но и к тем он привык, стараясь передавать их прямо целиком, со слов, для большего вразумления домашним.
Скоро по всему дому разнесся слух, что в плотницкой артели завелся писарь, что всякие письма пишет и дешево берет, а в добрый час попадешь — и даром настрочит. К Петрухе с просьбами о письмах стали ходить и посторонние лица. Приходила кухарка:
— Пиши в деревню, к моему соколу ясному Кузе, что, мол, крепко люблю и обнимаю и по гроб в верности нелицемерной пребуду, а мне здесь по тебе больно тошно. Да пожалостней, голубчик, напиши.
И кухарка пропела ему последнюю фразу. Но не угодил писец заказчице, прочитавши своим обыкновенным тоном…
— Пожалостней бы ты: эдак неладно! — толковала бестолковая баба. — Пожалостней-то, как я говорила…
— Ну, да так и выйдет, инако нельзя… пером-то… — вразумлял он бестолковую.
— Ладно, уж коли и так запечатай. А я тебе ужо пирог занесу. Приходила и горничная, — и, стыдясь компании, закрывалась рукавом под градом доморощенных острот, и убегала, и опять приходила, чтоб вызвать грамотея на лестницу.
— Ваши-то улягутся, напиши мне, да не смейся, не стыди при всех, не показывай.
— Вам как, по-какому?
— Да по-такому, что… да ты смеяться будешь, я убегу!
— Зачем бежать? сказывайте — всяко, значится, можем.
— Мне вот как… Да нет, не скажу: смеяться станете — стыдно! Я уж из полпивной вызову: тот мне всегда писал — знает.
— Сказывайте, как надо, по тому и напишем, а зачем смеяться? — не краденые с вами. А наши ребята так только… с полудурья. Вишь, делать-то нечего — ну, и ржут.
— Вы напишите, что так как, мол, киятр сегодня, представления, то господа едут, а мы дома с Глашей. Выходите — под воротами будем в ожидании зрения; ну, как там, сам знаешь.
— Тоись это приходи, значит, а мы тут. Так, ничего, могим!.. а как зовут?
— Нет, уж этого не скажу.
— Да ведь так-то нельзя. Кому пишешь — не знаешь. Эдак не толк: без имени, по-нашему, по-деревенскому, и овца баран.
— Я сама знаю, и там знают. Отдадим.
— Ну, ладно, — пожалуй, и без имя.
— Я через часок зайду, постучу в дверь, а вы и выходите.
— Да коли услышу. Вы уж так бы вошли: ребята наши смирные — ничего… ладно, приходи!
Петруха сел к столу и принялся за писанье.
— Что, али востроглазой-то той строчишь? Что велела?
— Приходи, слышь, под ворота. А кому писать — не сказала.
— Ишь ты! ну, да не сказала — тебя испугалась.