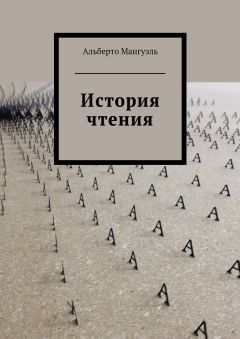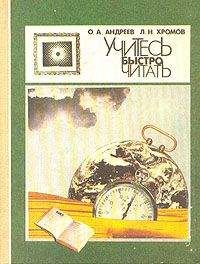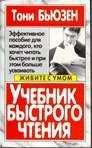Человек читающий. Значение книги для нашего существования - Хисген Рюд
Цифровые медиа, разумеется, не отменяют текст и чтение. В цифровой среде чтение важно как никогда. Однако мониторы, как выясняется, препятствуют вдумчивому чтению, что оказалось одним из неожиданных и непредвиденных последствий новой технологии. Невзирая на то что вдумчивое чтение книг никогда не было универсальным, оно, безусловно, формировало образовательные стандарты. Экраны же диктуют совершенно иной способ чтения, противоречащий основным свойствам книжной культуры. Именно здесь возникает водораздел между поколениями. Воспитанное на книгах старшее поколение способно выбирать. Для того, кто обладает дисциплиной и концентрацией, чтобы осилить книгу, не составляет труда прочесть и более короткие тексты на экране. Цифровое поколение выросло с экранами; скоростное гиперчтение{59} — для него абсолютно естественный способ восприятия текстов. Однако умение читать короткие тексты на экране не обязательно подразумевает умение читать книги. «Анну Каренину» можно прочесть и на экране мобильного телефона, но не каждому такое под силу. Желающий читать вдумчиво, пусть и с экрана, должен проявить нешуточное упорство. Что на практике оказывается довольно затруднительно. Даже человек, одолевший всю «Войну и мир» на мониторе телефона, позже отказался от идеи равнозначности бумаги и экрана[159].
При выборе носителя текста (бумажного или цифрового) молодые люди вряд ли руководствуются соображениями развития ментальной дисциплины. Этот выбор определяется скорее удобством (или ценой), нежели соответствием поставленной цели, например обучению.
Канадский философ и культуролог Маршалл Маклюэн еще в 1967 году утверждал: «Не зная, как действуют средства коммуникации, невозможно понять общественные и культурные изменения»[160]. Вдумчивое чтение — продукт печатных изданий; мониторы продвигают гиперчтение. Этот факт в очередной раз подтверждает мысль того же Маклюэна о том, что средство коммуникации определяет содержание и манипулирует им: «средство передачи сообщения — это и есть сообщение». Часто отмечалось, что само по себе гиперчтение не ново. Подобное исследовательское и поисковое (стало быть, поверхностное) чтение существовало веками, а значит, необходимо человеку. Постоянно (сознательно или бессознательно) придерживаться в экранной культуре формы чтения, являющейся продуктом книжной культуры, разумеется, бессмысленно. Чтение на бумаге не является естественным мерилом вещей. Гиперчтение имеет право на существование. Оно просто служит другой цели, вовсе не заменяя собой вдумчивое чтение.
Как бы мы ни старались, нам — каждому человеку и обществу в целом — никуда не деться от воздействия новых медиатехнологий. Как говорил Маклюэн, сначала мы создаем медиа, а потом медиа создают нас. Даже при попытке отчаянного сопротивления экранной культуре общество все равно будет меняться. Поэтому приобщение к новейшим технологиям оказывается неизбежным. Теоретически Платон мог выбрать, принимать письменность или нет. Еще совсем недавно человек среднего возраста теоретически мог бы продолжать пользоваться печатной машинкой вместо компьютера. На практике же даже у Платона не было выбора, а те, кто сегодня отказываются от компьютеров и смартфонов, остаются отрезанными от информационного поля, а следовательно, от общества.
Технологические свойства и скрытые потенциальные возможности экранов сопряжены с серьезными социальными последствиями. Поглощение нашего внимания посредством быстро меняющихся стимулов в коммерческих интересах вызывает серьезные проблемы с концентрацией и сокращение объема внимания. В ответ тексты укорачиваются. В первую очередь это относится к социальным сетям, электронной почте, текстовым сообщениям, блогам и прочим цифровым текстам. Однако подобная тенденция прослеживается даже в науке. Исследователи Наоми Барон (1946) и Энн Манген (1969) выяснили, что средний объем предлагаемой студентам литературы как в Америке, так и в Европе (Норвегия) снижается[161]. Монография (научный труд в виде книги с углубленным изучением одной или нескольких тесно связанных между собой тем) также переживает тяжелые времена. Констатируемый многими монографический кризис обусловлен различными причинами. В том числе склонностью гуманитариев, традиционно выпускающих большое число монографий, следовать издательской культуре точных наук, где тон задают короткие статьи. Так или иначе, в настоящее время монографии менее востребованы. В своем исследовании Барон исходит из того, что публикуемые академические книги также уменьшаются в объеме. Об этом свидетельствует популярность серии коротких книг, таких как «Princeton Shorts», «UNC Press Shorts», «Stanford Briefs», «Chicago Shorts», «Very Short Introductions Oxford University Press»[162].
Когда книга Маклюэна появилась в продаже, многим показалось, что в последнем слове названия сделана ошибка и что правильное название книги — знаменитый афоризм Маклюэна «the medium is the message» («средство коммуникации является сообщением»). Однако за счет смены одной буквы в слове «massage» возникло как минимум два новых смысла: «средство коммуникации как массаж» и «средство коммуникации как век масс» (Mass Age)[163]. Маклюэн имел в виду, что используемые нами средства коммуникации воздействуют на наше мышление. Если быть более точным: каждое средство коммуникации по-своему взаимодействует с нашими органами чувств и определяет, как мы воспринимаем мир. «Все медиа являются расширениями какого-либо человеческого чувства или свойства — психического или физического. Колесо — это расширение ноги. Книга — расширение глаза. Одежда — расширение кожи. Электрическая сеть — расширение центральной нервной системы. Средства коммуникации, изменяя среду, меняют наши чувственные пропорции, образцы восприятия. Расширение любого чувства изменяет образ нашего мышления и деятельности — нашего восприятия мира. Когда изменяются эти соотношения, изменяются и люди».
Разделение монографии на отдельные главы для облегчения поиска, приобретения и прочтения равным образом становится все более распространенной практикой. Прочтение научного труда целиком, в соответствии с замыслом автора, — скорее исключение, нежели правило. Это касается и ненаучной литературы — все больше издателей предпочитают выпускать короткие тексты[164]. Цифровые тексты часто публикуются в качестве так называемых лонгридов, отнюдь не оправдывающих свое название, — на самом деле это довольно сжатые, разбитые на части всевозможными мультимедийными элементами тексты, хотя они и длиннее журнальных или газетных статей, из которых возник этот новый жанр.
Развитие, начавшееся с появления письменности и книги (Глава 3), в XX и XXI веках стремительно ускорилось. От возникновения письменности до изобретения печатного станка Гутенберга прошло пять с половиной тысяч лет. От печатного станка до создания Всемирной паутины — всего пять с половиной столетий. Как мы уже убедились в Главе 3, технологии следуют собственному курсу развития. Наши изобретения порождают обилие непредвиденных возможностей (так называемых аффордансов), которые мы, разумеется, используем. Что само по себе не так уж странно, однако власть технологических гигантов (Big Tech) над обществом в целом и каждым человеком в отдельности вызывает нешуточное беспокойство. Что, если будущее нашей культуры отдано на откуп компаниям, руководствующимся преимущественно прибылью акционеров в ущерб интересам общества? Более «демократический» доступ к знаниям не обязательно подразумевает бóльшую политическую демократию.
Технологические нововведения задумываются, как правило, для решения какой-либо проблемы. В настоящей главе мы задаемся вопросом, оправдывают ли они свое предназначение. Похоже, что цифровые технологии смогли решить далеко не все обозначенные выше сложности. Текст и, следовательно, язык по-прежнему сохраняются в качестве основной среды для всех важнейших знаний. Неуклонно разрастающийся параллельный мир на бумаге в эпоху цифровых технологий лишь расширяется, а виртуальная документальная вселенная теперь, похоже, и есть наш «реальный» мир. Знания и чтение не сделали человека высоконравственным существом и не помогли искоренить войны. Цифровое чтение и информационные технологии, пытающиеся заменить печатную продукцию, не избавили нас от информационной перегрузки и не предложили адекватного способа решения мировых проблем. В одном из своих эссе в сборнике «Мировой мозг» (1938) Герберт Уэллс писал о времени, когда на земле почти не останется неосведомленных или дезинформированных людей. Даже Всемирная паутина не стала тем инструментом познания, который смог оправдать это ожидание. Интернет и цифровые медиа были призваны сделать знания более управляемыми, однако экспоненциальный рост информации и кризис концепции знания не способствовали лучшему усвоению знаний. Не преуспели мы и в управлении технологическим потенциалом. Улучшилось ли за восемьдесят лет, после того как Уэллс написал свой «Cri de coeur», наше положение? Похоже, что стоящие перед нами вызовы по мере развития наших знаний и технологий лишь приумножаются.