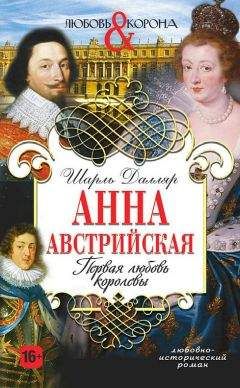Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
До мая 1802 г. Гёльдерлин служит домашним учителем и проповедником в семье Мейера, немецкого консула в Бордо. Овладевшая поэтом странная тревога гонит его в путь: он отправляется пешком на Родину. Здесь он узнает от Синклера о смерти Сюзетты Гонтар: она умерла от банальной кори (заразилась ею, самоотверженно ухаживая за детьми) 22 июня 1802 г., совсем молодой. Смерть Сюзетты Гонтар усилила первые признаки душевной болезни, ставшей с этого времени необратимой. Гёльдерлин скитается пешком, и в этом ужасно исхудавшем, заросшем, с длинными грязными ногтями и диким блуждающим взглядом человеке знакомые с трудом узнают некогда прекрасного, стройного и подтянутого, сосредоточенного молодого человека, который, согласно воспоминаниям одного из его соучеников, входил в зал для занятий подобно Аполлону, спускающемуся на землю. Безусловно,
Гёльдерлин умер дважды – сначала духовно, потом физически. Ужас, холод, отчаяние, одиночество своего существования он выразил в одном из самых прекрасных своих стихотворений, написанном на пороге окончательного безумия, примерно в 1804 г.:
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchteme Wasser.
В диких розах,
С желтыми грушами никнет
Земля в зеркало зыби,
О лебеди, стройно:
И вы, устав от лобзаний,
В священную трезвость вод
Клоните главы.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenswchein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
А ныне: где я найду
В зимней юдоли цветы – о, где
Свет, и тепло,
И тени земли?
Стынет в молчанье
Крепость. В ветре
Скрежещет флюгер.
Название этого стихотворения, чаще всего передаваемое по-русски как «Середина жизни», в оригинале звучит как «Половина жизни» («Hälfte des Lebens»), что придает ему особый, пронзительно-трагический смысл. Здесь, безусловно, звучит дантовская аллюзия («Земную жизнь пройдя до половины…»), но она преломлена через призму трагической судьбы немецкого поэта. Когда Гёльдерлин писал свою «Половину жизни», ему было 34 года или неполных 35 лет (35 лет – середина жизненной дуги в соответствии с библейскими и, соответственно, дантовскими представлениями), но он уже предчувствовал, что для него это не будет серединой жизненного пути, что вся сознательная жизнь ограничится для него половиной жизни.
Действительно, Гёльдерлин все больше и больше погружается во мрак безумия. С 1804 по 1806 г. он формально занимает место библиотекаря в Гомбурге, подысканное для него верным Синклером, стремившимся помочь другу. Но с 1806 г. поэт уже не может, даже фиктивно, числиться ни на какой службе. Родственники отдают его на попечение тюбингенского столяра Циммера. Здесь, в небольшой мансарде в виде башенки с узкими окнами, выходящими на Неккар, безумный поэт живет, практически в абсолютной изоляции, тридцать семь лет – до смерти, последовавшей 7 июня 1843 г.
В безумии Гёльдерлина до сих пор есть нечто загадочное. В XX в. некоторые будут трактовать его как «безумие» Гамлета, как попытку укрыться от безумной действительности и прозреть истину Судя по отдельным строкам писем Гёльдерлина, написанных уже в состоянии болезни, он сам сознавал свое безумие и даже полагал его закономерным. Так, в письме к Бёлендорфу, в котором нет даты и которое написано, как полагают исследователи, уже после 1806 г., есть строки: «Могучая стихия, небесный огонь и спокойствие людей, их жизнь на лоне природы, их невзыскательность и довольство пленяли меня непрестанно, но, подобно тому, как говорят о древних героях, я и о себе могу сказать, что меня сразил Аполлон» (перевод Н. Гнединой)[107]. Невольно вспоминается пушкинское: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон…» Возможно, Гёльдерлин переживал надвигающееся безумие как необходимую жертву Аполлону, как кару за поэтическое прозрение или, наоборот, как условие абсолютного прозрения: увиденный поэтом чрезмерный свет толкает его в темноту. И еще в «Эмпедокле» им было сказано: «Тот, через кого говорил дух, должен вовремя уйти».
Безусловно, болезнь Гёльдерлина была подлинной: впечатлительная, чувствительная душа была сражена ударами судьбы, невозможностью совмещения со страшным временем. Однако и в безумии в нем не угасла гармония: он играл на клавикордах, пел, он продолжал писать стихи, в которых, при всей темности, эзотеричности содержания, нет ни одной даже орфографически неточной рифмы. О поэзии периода безумия существует огромная исследовательская литература как литературоведческого, так и медицинского характера, ибо случай этот воистину беспрецедентен. В этих стихах порой прорывается особая логика, словно поэт из таинственной тьмы пытается высказать нечто чрезвычайно важное о сути жизни земной и той, что наступает за ее пределами:
Die Linien des Lebens sind verschieden,
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen.
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
Различны линии бегущей жизни,
Как бы границы гор или дороги.
Что здесь неполно, там восполнят боги,
Мир даровав и водворив в отчизне.
Неизвестно, осознавал ли Гёльдерлин свое время, помнил ли свое собственное имя, ибо под стихотворениями, созданными в период безумия, могла стоять любая дата далекого прошлого и подпись: «Mit Untertänigkeit Scardanelli» («С почтением – Скарданелли»); «Mit Untertänigkeit Buonarotti» («С почтением – Буонаротти»). Для современников и ближайших потомков, людей XIX в., Гёльдерлин словно бы умер еще при жизни: его не публиковали, о нем не вспоминали. О том, что он все еще жив, все еще влачит свое жалкое и в то же время исполненное мистической тайны состояние, знали немногочисленные родственники и друзья. С. Цвейг писал: «…робкая, призрачная тень былой красоты, бродит он по улицам Тюбингена, забава детей, посмешище студентов, не знающих, какой высокий дух сокрыт, умерщвленный, под трагической маской: все живущие давно уже позабыли о нем. Как-то около середины нового столетия Беттина[108], услыхав, что он (некогда встреченный ею как божество) еще влачит свою “змеиную жизнь” в доме скромного столяра, испугалась, словно увидев выходца из царства Аида, – так чужд его образ эпохе, так отзвучало его имя, так забыто его величие. И когда однажды он лег и тихо умер, эта неслышная кончина не вызвала отзвука в немецком мире, словно бесшумное падение осеннего листка» [109].
Накануне кончины, как вспоминают очевидцы, Гёльдерлин долго смотрел через окно своей башни над Неккаром на волны любимой реки, не раз воспетой в его стихах. Скончался он тихо, без каких-либо болезненных приступов. Его хоронили немногие близкие и друзья, оставшиеся в живых, а также студенты и профессора Тюбингенского университета. И хотя на голову поэта был возложен лавровый венок, вряд ли провожавшие его в последний путь понимали, кого хоронят.
Деревья, и корни, и свет,
под солнцем – послушная лодка
причалена к берегу, возле
красивых холмов. Перед этою дверью
тень поэта прошла,
ее река отразила, —
Неккар, зеленый мой Неккар,
который гуляет беспечно
в лугах и в густом ивняке.
О башне,
о том, как трудно в ней жить,
о том, как башенный свод
закрыл небосвод от поэта,
о тяжести каменных стен,
что тяжко давит собой
луга, и деревья, и реку,
рыдает звон колокольный
над кровлями. Стрелка часов
дрожит, и с железным скрипом
вращается флюгер.
Так написал о Гёльдерлине выдающийся немецкий поэт XX в. Иоганнес Бобровский, видевший в нем – наряду с Клопштоком – одного из главных своих поэтических учителей. Миновав дистанцию в более чем столетие, Гёльдерлин легко и органично вошел в круг поэтов XX в., причем самых разных эстетических устремлений. Он – «свой» для неоромантика и символиста Ст. Георге и его круга, к нему обращается как к великому учителю жизни и поэзии Р.М. Рильке, его приветствуют как своего собрата по судьбе и по титаническим усилиям пересоздания языка и мира экспрессионисты – и те, которые объединяются вокруг журнала «Штурм», и «активисты». Гёльдерлина провозглашают «орфическим певцом», Орфеем, вновь явившимся в мир, воплощением самой трансцендентной сущности поэзии. Разумеется, это связано с новаторскими открытиями Гёльдерлина и с особым его положением в литературном процессе конца XVIII в. – тем положением, которое немецкое литературоведение в основном определяет как положение «между классикой и романтизмом» («zwischen Klassik und Romantik») – между «веймарским классицизмом» и становящимся романтизмом. Как уже отмечалось, сами романтики с почтительным и немым удивлением относились к Гёльдерлину как к не совсем понятному им гению. Беттина фон Арним, сестра К. Брентано, посетившая забытого всеми и словно выпавшего из современности в свое загадочное внутреннее время поэта в его башенном заточении в Неккаре, оставила потомкам свидетельство этого изумления: «Слушая его, невольно вспоминаешь шум ветра: он бушует в гимнах, которые внезапно обрываются, и все это – будто кружится вихрь; и потом им как будто овладевает глубокая мудрость, – и тогда совершенно забываешь, что он сумасшедший; и, когда он говорит о языке и о стихе, кажется, будто он близок к тому, чтобы раскрыть божественную тайну языка»[110].