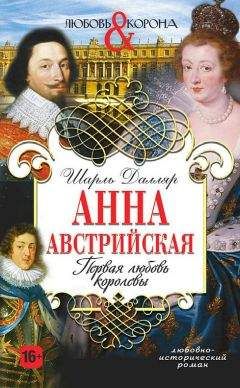Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века
Франкфуртский период стал самым плодотворным в творчестве Гёльдерлина. Именно здесь, в беседах с Диотимой, окончательно определились очертания задуманного ранее философского романа «Гиперион». Впоследствии Гёльдерлин будет корить себя за то, что заставил героиню романа, также названную им Диотимой, умереть и тем самым «напророчил» раннюю смерть реальной Диотимы. Именно ей он пришлет рукопись завершенного романа в 1799 г., когда они уже будут в разлуке: «Вот наш “Гиперион”, дорогая! Хоть какую-то радость он все же тебе доставит, этот итог наших одухотворенных дней. Прости, что Диотима умирает. Помнишь, мы с тобой и раньше не совсем были в этом согласны. Я полагал, что это необходимо вытекает из всего замысла. Возлюбленная, прими все, что кое-где сказано о ней и о нас, о жизни нашей жизни, как благодарность, которая часто тем искренней, чем она косноязычней» (перевод Н. Гнединой)[104]. Во Франкфурте Гёльдерлин работает также над трагедией «Смерть Эмпедокла». И здесь же, испытывая необычайный душевный подъем, приливы вдохновения, он создает большое количество любовных и философских стихотворений, обращенных к Диотиме:
Молодость невозвратима,
Но поэзии цветы
Вновь раскрылись, Диотима,
В час, когда явилась ты.
Я молчал в немой печали,
Но сверкнул мне образ твой,
И, как прежде, зазвучали
Гимны радости живой.
…Как твой лик высок и светел!
Как я долго ждал, скорбя!
Прежде, чем тебя я встретил,
Я предчувствовал тебя.
Однако счастье общения с Диотимой длилось недолго. Словно предчувствуя, что это удивительное блаженство, абсолютное состояние творческого вдохновения скоро закончится, поэт молит грозных богинь судьбы дать ему хотя бы еще одно лето, хотя бы еще одну осень, чтобы пожать плоды творчества:
Одно мне лето дайте, могучие,
Одну лишь осень, чтобы дозрела песнь,
И, сладкою игрой насытясь,
Смерти безропотно покорюсь я.
Не знав при жизни доли божественной,
Душа покоя в Орке не ведает,
Но если я святыне сердца —
Песне – придам совершенство, будешь
Ты мне желанно, царство безмолвия!
Пускай умолкнут струны мои во тьме,
Чего еще искать мне в мире,
Если, как боги, я жил однажды!
Но судьба не дала поэту еще одной счастливой осени. В сентябре 1798 г. последовало объяснение Гёльдерлина с банкиром Гонтаром, наконец-то «прозревшим», и поэт вынужден был покинуть его дом. Он уехал в Гомбург, где нашел приют в доме своего преданного друга Исаака Синклера, дипломата, философа, поэта, страстного республиканца, мечтавшего о преображении жизни в Германии. Гёльдерлин тоскует вдали от своей Диотимы, но она поддерживает его своими письмами, дышащими невероятной любовью и нежностью (все эти письма, до единого, бережно сохранил поэт[105]). Гёльдерлин продолжает работать над трагедией «Смерть Эмпедокла» (над различными ее редакциями), пишет новые лирические стихотворения, в которых все чаще воображаемые им эллинские ландшафты сливаются с родными немецкими, в которых он размышляет о судьбах Германии и немцев («Рейн», «Гейдельберг», «Песня немца», «К немцам», «Германия» и др.).
Гомбургский период завершается весной 1800 г., когда Гёльдерлин отправляется сначала в Штутгарт, где работает домашним учителем в одном из купеческих домов. Однако постоянная душевная тревога («Но нам не дано найти покоя нигде…») вновь вынуждает его двинуться в путь. Он странствует по Швейцарии, и новые открытые им ландшафты – альпийские – переполняют его душу вдохновением, изливающимся в гениальном «Паломничестве»:
О благодатная Свевия, матерь моя,
Ты, сходная ликом с твоей лучезарной
Сестрой Ломбардой,
Как и она, ты пропитана влагою ста
Бурливых потоков!
Деревья твои закипают
Белой и розовой пеной,
Темной, глубоко-зеленой листвой,
И тебя осеняют альпийские горы
Швейцарии, рядом с тобою
Нашего дома священный очаг, и ты внемлешь тому,
Как из серебряной жертвенной чаши,
Наклоненной рукой непорочной,
Льется и льется струя – это солнце коснулось
Льдистых кристаллов, и, тронутый легким
Утренним светом, на землю
Рейн ниспадает со снежных вершин
Чистейшей водой.
Альпийский ландшафт, открытый в немецкоязычной поэзии швейцарцем А. Халлером, обретает новое, глубинно-метафорическое, свойство у Гёльдерлина, органично вписывается в гигантский ландшафт культуры, скрепляемый ассоциативным полетом мысли, которой не поставлены пределы, которая свободно устремляется с альпийских вершин к долинам Неккара и Рейна, затем – к вершинам Кавказа, оттуда – к берегам Черного моря – Эвксинского (Гостеприимного) моря, как называли его греки:
А я – я стремлюсь на Кавказ!
Ибо даже сегодня слышал
Голоса, оглашавшие небо:
Как ласточка, волен поэт.
К тому же я слышал недавно,
Будто в далекие годы
Наши древние предки германцы
Спустились по волнам Дуная
И с Сынами Солнца,
Искавшими тени,
Сошлись у Черного моря;
Так что море это по праву
Именуют – Странноприимцем.
Во время пребывания в Швейцарии Гёльдерлин узнает о заключении Люневильского мира (9 февраля 1801 г.) между Германией и Францией. Как предполагают исследователи, именно это событие стало импульсом к созданию большого стихотворения (или небольшой поэмы) Гёльдерлина «Праздник мира», рукопись которого была обнаружена в Лондоне в 1954 г. и опубликована известным немецким исследователем Ф. Байсснером. В «Празднике мира» разворачиваются грандиозные видения будущего, предстает озаренная солнцем утопия счастливого бытия человечества, преломленная через призму библейских мессианских видений и насыщенная евангельскими аллюзиями:
На пир бы многих я позвал… Но Ты,
Людей любивший ласково и строго,
Ты, восседавший под сирийской пальмой
Там, у колодезя Иакова, что по дороге в город,
Когда колосья гнулись на ветру, прохлада
Струилась от священных гор; когда
Друзья Твои, подобно облакам,
Стояли тенью вкруг Тебя, чтоб луч, святой и грозный,
Не ослепив людей, пробился к ним,
О Юноша, как сквозь лесную чащу…
Но Ты… Пока Ты говорил, сгущалась
Тень беспощадного предначертанья. Так проходит
И все небесное. Но не бесследно.
<…>
…У Вседержителя, который
Земную радость дал нам, песни дал,
Есть Сын, чья сила – в тишине.
Мы узнаём Его,
Ведь нам знаком Отец, —
В день празднества, Он, Всемогущий Дух
Вселенной, наклоняется над нами.
Владыка времени! Он был велик, – далеко
Раскинулись Его поля… Но Он устал.
Ведь может же и Бог избрать, как смертный,
Поденный труд, деля судьбу людей.
Закон судьбы: людей узнают люди
И в тишине родится Слово.
Где Дух царит – мы с Ним. И спорим,
Что лучшее на свете. Ныне высшим
Мне кажется: завершена картина,
И, просветлен Своим созданьем, Мастер
Из мастерской выходит, – Бог времен,
Безмолвный, тихий Бог, и лишь закон любви,
Всеобщей красоты – владеет миром.
Вернувшись на родину в 1801 г., Гёльдерлин через очень короткое время, в декабре этого же года, уезжает во Францию, чтобы стать домашним учителем в доме немецкого консула в Бордо. Перед отъездом он посещает родных в Нюртингене и еще раз запечатлевает в своем сердце родной швабский ландшафт:
Мой тихий край! Вдали ты являлся мне,
Меня тревожил в дни безнадежности.
Ты здесь, мой дом, – вы здесь, деревья!
Помните ль детство и наши игры?
Давно то было, – о, как давно! Покой
Тех детских дней, и юность, и радости —
Их нет… Но ты, мой край священный,
Край мой страдальческий, вновь со мною.
В одном из последних сохранившихся писем Гёльдерлина, датированном 4 декабря 1801 г. и отправленном из Нюртингена близкому другу поэта, также поэту и драматургу, К.У. Бёлендорфу, говорится: «Сейчас я полон разлукой. Я давно не плакал. Но мне стоило горьких слез мое решение покинуть родину – навсегда, быть может. Разве не она дороже мне всего на свете? Но я им не нужен. И все-таки я хочу и должен остаться немцем, хоть на Таити, если меня туда загонят сердечное горе и нужда в куске хлеба» (перевод Н. Гнединой)[106]. Эти слова поэта как нельзя лучше объясняют глубинную причину жизненной трагедии Гёльдерлина и его душевной болезни: бесприютность, одиночество, сердечное горе, ощущение нереализованности дарований и надежд, ненужности Родине… Все, что у него оставалось, – творчество. Все острее поэт осознает, что единственная его подлинная отчизна и единственное достояние – Поэзия, уподобленная им священному посмертному приюту – сакральному Саду: