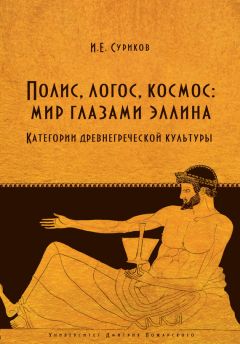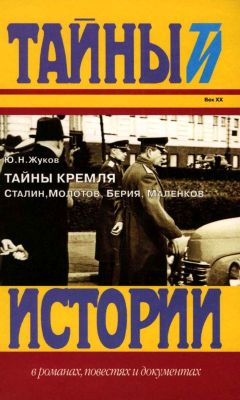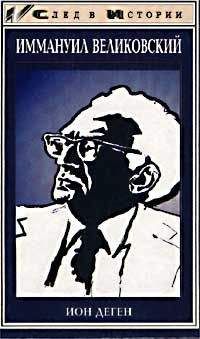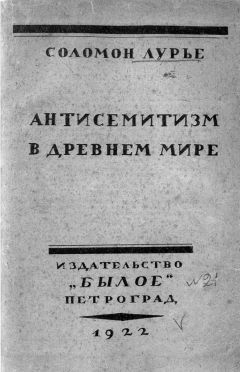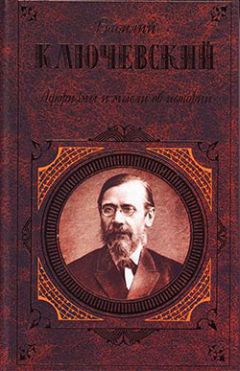Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма
Есть блуд труда, и он у нас в крови.
Осип Мандельштам— Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жачева карающий удар, – сказал Сафронов. – А то он один среди пролетариата не знает, для чего ему жить.
— А для чего, товарищ Сафронов? – прислушался Вощев из дали сарая. – Я хочу истину для производительности труда.
Сафронов изобразил рукой жест нравоучения, и на лице его получилась морщинистая мысль жалости к отсталому человеку.
— Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!
Андрей Платонов. Котлован
Железный Мессия как предтеча производственничества
Революция открыла перед искусством новый сюжет: в качестве сюжета она предложила самое себя. Этот революционный нарциссизм не следует однако рассматривать в качестве чистого продукта происшедшего в 1917 году переворота. В центре политического воображаемого революционной эпохи оставался, говоря словами Пьера Бурдье, процесс «номинации класса», т. е. создания самого революционного субъекта. Процесс этот хотя и не был рожден революцией, но получил от нее невиданное ускорение, эксплицитность, легитимность и тотальность.
Традиционно пролетарская культура понимается через отталкивание от культуры буржуазной. В этой проекции постреволюционная советская культура рассматривается в категориях «большого возврата» – как тематически и эстетически мелкобуржуазная. В нашу задачу не входит доказательство глубокой традиционности, а тем самым явной генетической связи (если не прямой зависимости) пролетарской культуры от буржуазной; тем более не входит в нашу задачу рассмотрение истоков вполне буржуазного «левого искусства». В центре нашего рассмотрения будет связь пролеткультовской и авангардистской утопии с советской культурой в единственном аспекте – в плане эстетизации труда и производства. Поскольку именно здесь концентрировалось политическое (собственно, «классовое») воображаемое создающего самого себя субъекта революции, без рассмотрения этой сферы невозможно понимание дальнейшего мутагенеза этого субъекта в сталинской культуре. В конце концов, сама легитимность сталинизма прямо зависела от статуса этого «пролетарского» субъекта. Моделируемый соцреализмом «социализм» должен был во всем напоминать о революционных фантазмах дискурсивно, будучи функционально противоядием от них. Это был дискурс «напоминания» через стирание памяти о революции и практиковавшихся в революционную эпоху «социализмах» с их непредсказуемыми «субъектами».
Пролетарская поэзия появилась на свет с тяжелой родовой травмой эстетической вторичности и «буржуаного эстетизма». Уже в дореволюционной пролетарской поэзии производство, трудовые процессы, инструменты, станки, завод, фабрика, город становятся главным предметом «эстетического переживания» (своего рода ненависти/любования), сохраняющего всю стилевую палитру своего времени.
Тут и «молитвы труду» (с вполне буржуазной его «фетишизацией», осуществляемой в стиле державинской оды), как у патриарха пролетарской поэзии Федора Шкулева в его стихотворении 1902 года:
Труд честный раны заживляет,
Труд силы, бодрости дает,
Труд сам господь благословляет,
Труд в мире все переживет…[386]
Тут и «песни–жалобы фабричного горемыки»[387] конца 90–х годов XIX века, как у одного из «отцов» пролетарской поэзии Егора Нечаева:
Под крышей шумного завода
Среди безмолвного народа
Моя жизнь горькая текла,
Без алых зорь и ясных дней
Полна лишений и скорбей.
Тут и стилизации под «народную песню» (у С. Лукашина):
Злая ты судьбина!
Как тебя изжить?
Стань, моя машина,
Перестань давить!..[388]
Тут и знакомые образы крестьянской поэзии новых пролетариев, вчерашних крестьян, – с городом–спрутом и машиной–вампиром, высасывающим силы и кровь (у А. Дикого):
Здесь мощь и власть машин.
Покинув косы, сохи,
Пришельцы деревень таят
И скорбь и вздохи.
Здесь все рабы. (И т. д.)[389]
Тут и традиционная мрачная «пролетарская готика» (в стихотворении Розенфельда «Машина»):
Вертятся и дико грохочут машины,
И, слушая вой их, я скорбно притих.
Исчез я бесследно средь странной пучины.
Я – тоже машина средь массы других.
Мертвы мои чувства, мертвы все мышленья.
Все то, что любил я, чем вечно я жил,
Святые надежды, мечты и стремленья,
Все лучшее труд мой во мне подавил.
Колеса мелькают в безумном движеньи,
И мозг мой туманят и давят они,
И чудится мне, чьи‑то страшные очи
Пытливо и зорко за мною следят
И вечно твердят мне с утра до полночи:
Ты тоже машина, не более, брат![390]
Труд–каторга, завод–каземат, фабрика–душегубка, город–спрут… Суммируя мотивы ранней пролетарской поэзии, один из главных ее исследователей Владимир Фриче писал: «Длинной вереницей проходят перед нами дети рабочих, умирающие от чахотки в больнице, безработные, бредущие нищими по большой дороге, углекопы, погибающие от взрыва в шахте, матери, изнывающие в непосильном труде, чтобы прокормить семью […] это плач над трагической долей пролетариата»[391]. Между тем этот «скорбный плач» следует рассматривать не столько в плане выражения «классового сознания», сколько в плане его формирования. В готовых стилевых формах массовой культуры рубежа веков социальная фрустрация искала и находила для себя пути выхода из немоты. Так в эстетических формах возникал «классовый дискурс»; так номинировался «класс».
Всего за несколько лет до революции один из ведущих пролетарских поэтов Василий Александровский так описывал работу на заводе:
Немного сна, – пронзительный гудок, –
Проснется жизнь в скривившихся домах,
И пролетарии с проклятьем на губах
Позволят высосать машинам жизни сок[392].
Пройдет всего год после революции, и тот же поэт так выразит новое «классовое сознание»:
Тело – гибкая пружина,
Страсти – пламя горна,
Перенял я у машины
Быть во всем упорным[393].
Разумеется, в течение этих нескольких лет жизнь не стала лучше: труд из каторги не стал радостью, завод из каземата не превратился в волшебный замок, а город–спрут оставался для нового «пролетария» еще более чуждым и враждебным, став в годы Гражданской войны холодным, голодным и куда более опасным. Между тем пореволюционная пролетарская поэзия буквально захлебывается в только ей доступном «восторге труда». Тяжелая форма этой эстетической астмы достигает критической точки именно в тот момент, когда труд как таковой попросту исчезает: экономическая жизнь страны полностью замерла, не прощупывается даже пульс ее, заводы лежат в руинах, фабрики стоят, Гражданская война и распределительная «экономика» военного коммунизма фактически отменили производство, безработица приобрела массовый характер. Дискурсивная номинация «класса» оказывается едва ли не самым успешным производством (после убийства, разумеется) в охваченной войной стране. Обращаясь со страниц журнала «Кузница» к пролетарским поэтам, Семен Родов призывал: «пусть расцветет словесный сад»:
Сопесенники, поспешите
Заводский ропот в гимн облечь,
Чтоб в вихре взвеянных событий
Сильней звучала наша речь[394].
«Сопесенники» не подвели: пролетарский «словесный сад» начал расцветать на глазах. Если раньше пролетарский поэт с тоской писал о родной деревне, то сегодня он устами Михаила Герасимова провозглашал:
Я не в разнеженной природе
Среди расцветшей красоты
Под дымным небом на заводе
Ковал железные цветы.
Их не ласкало солнце юга
И не баюкал лунный свет –
Вагранок огненная вьюга
Звенящий обожгла букет[395].
Если раньше вчерашний крестьянин писал о заводе с тоской как о каторге и каземате, то сегодня он неожиданно прозрел, подобно Илье Садофьеву (стихотворение «В заводе»):
Здесь, в заводе каждодневно
Шумный праздник, карнавал
………………………………
Каждодневно быть в заводе,
Быть в заводе – наслажденье
Понимать язык Железный,
Слушать Тайны Откровенья.
Все, казалось бы, поменялось кардинально. На самом деле мы имеем дело все с той же эстетизацией завода и производства. Не изменился даже стилевой репертуар: «Тайнам Откровенья» у Садофьева соответствует образ «Железного Мессии», который «всем несет Радость и Свет, цветы насаждает в пустыне» у Владимира Кириллова:
Я подслушал эти песни золотых грядущих дней
В шуме фабрик, в криках стали, в злобном шелесте ремней.
Я смотрел, как мой товарищ золотую сталь ковал,
И в тот миг Зари Грядущей лик чудесный разгадал[396].
Даже симпатизирующий пролетарским поэтам Петр Коган должен был признать, что «пролетарские поэты на место старой религии установили новую»[397]. Причем не потрудившись даже изменить обрядность. Илья Садофьев прямо звал товарищей к утренней молитве, но не к той, которая возносилась раньше, не к «нудно–сонным напевам колокольного хваленья, – богу лени, мести, гнева, зла, покорности, смиренья, дряхло–старому, глухому, побелевшему, как мел, на седьмой день, засыпая, опочившему от дел», но к молитве «слитно–стройных голосов», «тьму пугающих, ликующих гудков»: