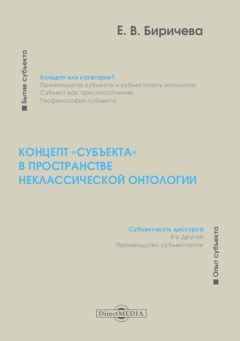Елена Петровская - Безымянные сообщества
Реджио как будто все время удерживается на этой тонкой грани между знаком и дознаковым. Знаковое создает иллюзию понимания, знания, смысла, это обязательная референция к реальности или ее упорядоченным дубликатам (этот фильм «о…»). Дознаковое, со своей стороны, подвешивает референциальность, заставляет увидеть механизм атрибуции и увидеть как случайный. Здесь действуют другие отношения. Неудивительно, что эта область подкреплена равноценным музыкальным рядом — музыкой Филипа Гласса, чья мелодичность («фигуративность») есть лишь производное от ритма. «Распластать», замедлить знаки, выявить банальное как способ восприятия, а не набор предметов, практик и явлений — таков, по-видимому, этот почти невозможный проект.
Дознаковое — область сновидного, коллективных фантазий (или фантазмов). Сегодняшние коллективы фантазируют историю, пытаясь получить к ней опосредованный доступ. Само историческое чувство визуально — оно оформлено кинематографом. Даже хроника оказывается лжедокументальной, поскольку многократно препарирована. У Реджио этому соответствует не только замедление — такой прием характерен для картины в целом, — но и «выворачивание наизнанку»: люди даны словно в фотопозитиве, когда черты лиц становятся неузнаваемы. В фильме повторяются ритмические эпизоды — марширующие колонны военных, как, впрочем, и обычных демонстрантов. Войны «вспоминаются» как послеобраз марша: нескончаемый бросок, беспрепятственность перемещения. Тех войн уже почти никто воочию не видел, а эти, нынешние, проецируют на прошлое свой виртуально-цифровой формат.
Обращение к дознаковому — попытка, насколько это возможно, реконструировать чувственность, чувственность сегодняшнего человека. Вернее так: взгляд на знак в его дознаковом обличье — это и есть подобная попытка. То, что повсеместно потребляются клише, факт уже неоспоримый. Однако показать клише в его «отсроченности», увидеть банальное до его объективации или оценки — дело далеко не многих. Реджио относится к тем из современных экспериментаторов, кого интересует способ единения через клише. Дело не в том, чтобы заклеймить (разоблачить) нынешнее положение. И уж, конечно, не в противопоставлении прогресса природе. (Хотя сам режиссер весьма скептичен в отношении первого. Но странный парадокс: критик новых технологий выступает в то же время их спонтанным адвокатом — фильм «Накойкаци» использует компьютерные возможности как, пожалуй, никакой другой.) Итак, отношение выражается, в сущности, к образам-знакам, иначе говоря, к образам, которые прорываются в поле видимости и наделяются значениями. Еще чуть-чуть — и это уже чистые знаки, чья визуальная составляющая подавлена. (У Реджио мы видим вращение сменяющих друг друга брендов — логотипов кинокомпаний, пищевых продуктов, машин.) Но образу-знаку предшествует образ в качестве условия проявляемости; это сфера проекций и грез коллектива. Для того чтобы образ-знак обрел полноту, он должен быть конституирован некоторой аффективной общностью. Сама его «значимость» проистекает из способности быть «неоднозначным» — размываемым, подтачиваемым фантазийной жизнью коллектива. Притом что коллектив, аффект, клише образуют вместе зону первичного неразличения.
Лента Реджио провоцирует многие подходы — в смысле многих подступов и приближений к ее пониманию. Другой подход, переплетенный, впрочем, с только что намеченным, состоит в переопределении произведения искусства. Мало сказать, что «Накойкаци» — фильм синтетический, где музыка не является простым сопровождением, а сами образы вызывают поистине висцеральные переживания. (Чего стоит один лишь trip — буквальный пролет — по плавным изгибам какого-то трубопровода. Это может быть все что угодно: тоннель для космических кораблей, скоростной санный путь и даже воображаемая навигация по кровеносным сосудам.) Обсуждаемый фильм является также индикатором меняющегося статуса (современного) искусства. Прежде всего, искусство разомкнуто навстречу общностям, которые оно и проявляет. Чтобы возникло произведение, требуется со-участие. Но не традиционное участие зрителя в легитимации институциональных единств, к числу которых можно отнести музей — да и само произведение. Требуется, напротив, некоторая зрительская анонимность. Только общность, реагирующая независимо и вопреки делению на «специалистов» и «профанов», общность, видящая в произведении не уникальную ценность, но скорее самое себя, иными словами, выявляющая его медиальность/медийность (произведение как «медиум», «посредник», «средство»), только такая общность устанавливает новую, горизонтальную, ось взаимодействия с произведением, которое тем самым изменяет своему традиционному определению.
Фильм Реджио в этом отношении анонимен и антииерархичен. Само его авторство случайно, вернее — незначимо постольку, поскольку Реджио лишь транслирует (воссоздает) общий режим восприятия — априорно коллективный и исходным образом банальный. Повторяем: необходимо перевернуть устоявшиеся отношения. Банальность находится не там, на выходе, как случайное качество продукта, ущерб или результат недоработки, — по такой логике банальному противостоит красота, это высшее мерило уникального. Но сегодня нет красоты вне и помимо банального, как нет и истины помимо той, что распознается в стремлении к универсальности разделяемого сообща. Общее как горизонт, толкуется ли оно в качестве «до» или «после», — в этом, похоже, нерв, нащупанный и современным искусством. Только не забудем: это искусство «после» искусства, то есть после многовекового повествования о том, как искусство определялось — творилось — в рамках специализированных институтов. Этому искусству Реджио противопоставляет свою откровенно демократическую версию всеобщей коммуникации (через искусство).
Как технолог новой коммуникации Реджио предельно инновационен. Он не столько копирует то, что уже есть, сколько, погружаясь в самые пласты невидимого, создает нулевую степень нового кинематографа. То, как мы видим Реджио сегодня, является прообразом будущего восприятия кино. Именно фильмы типа «Накойкаци» знаменуют переход на новый технологический уровень, который все еще опознается в этом качестве (потом он станет привычным, а значит незаметным). То, что ново, впрочем, касается не одних лишь способов компьютерной обработки материала. (А материал огромен. Восемьдесят процентов фильма — это кадры хроники, извлеченной из крупнейшего архива Фонда Гетти и подвергнутой тотальной обработке.) Новизна, подчеркнем, — не просто перечень некоторых «объективных» достижений. Это также момент сугубо проективный, и не исключено, что «Накойкаци» создает чувственность не меньше, чем ее выражает. Вообще, любой разговор об условиях видимости, которые определяются через априорную совместность — сегодня нет индивидуального зрителя, стоящего перед лицом столь же индивидуального творения, — такой разговор предполагает безусловный элемент долженствования. Последнее, однако, не есть род предписания или проекции нормы в завтрашний день. Скорее, это тот недостижимый горизонт, где соединяются «начало» и «конец», где то, что мы именовали коллективными условиями видимости, полагается как некая реализация. Только следует иметь в виду, что реализация уже имеет место.
VII
Соцреализм: высокое низкое искусство[*]
Можно утверждать, что на глазах обостряется интерес к нашей недавней истории. Два десятилетия прошлого века, традиционно увязываемые с расцветом социалистического реализма и, конечно, со сталинской тоталитарной машиной, видятся сегодня по-другому — более отстраненно, менее болезненно. Кажется, что появилась возможность трезво и с закономерным интересом отнестись к артефактам этого времени и, в частности, к изобразительной продукции. Там, где прежде виделся один лишь социальный заказ, сегодня усматриваются механизмы более сложные и опосредованные. Мы попытаемся набросать возможный подход к живописному искусству сталинской эпохи исходя из базовой посылки о том, что социалистический реализм неопределим в категориях стиля. Официально провозглашаемый как «метод», он остается своеобразным (идеологическим) ноу-хау для создаваемых в эти годы творений[419]. Однако понять, о чем идет речь и каков в точности статус упомянутых творений, можно, лишь вписав соцреализм в необходимо массовый контекст. Такая операция, в свою очередь, потребует смены концептуальных ориентиров, к чему мы и хотим здесь подступиться. Обзор обширной литературы по соцреализму остается за рамками данной статьи.
К вопросу о стиле.Социалистический реализм — это вариант массовой культуры в условиях репрессивного социализма. Многократно и на разные лады отмечается особенность его художественной формы: одни называют ее «нейтральной», поскольку та облегчает непосредственное восприятие сюжета[420], другие, исследуя живопись, говорят о «грязной» цветовой доминанте, о безличности фактуры[421] или о затертости, затасканности средств художественного языка во имя «полного автоматизма восприятия»[422]. Приведенные определения различаются разве что степенью эмоциональности. Однако из них вытекает одно: соцреализм, обращенный к массам и придуманный для них, есть искусство высокой анонимности — идет ли речь о способе использования тех же живописных средств или, более широко, об авторстве произведения. В этой связи напомним красноречивые факты: масштабные полотна и скульптуры создаются бригадами художников по пять, восемь и более человек, а само произведение социалистического реализма является изначально репродуцируемым, «многотиражным». Блестящим подтверждением этому служит, в частности, всесоюзная сеть садово-парковой скульптуры. Стилистическая стертость соцреализма связана с тем, что «художественный образ» (основная эстетическая категория) имеет в принципе совсем иную плотность: он окутан «незримой оболочкой словесных определений, литературных ассоциаций, идеологических штампов»[423]. Образ говорит. Но, что особенно важно, он и проговаривается.