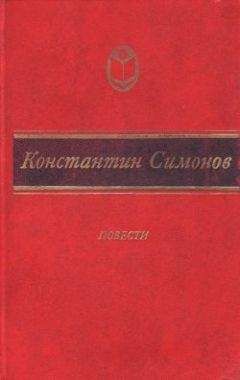Хэролд Блум - Страх влияния. Карта перечитывания
Использование моей психопоэтики должно открыть путь назад, к обогащению риторической критики, и это — одна из целей моей книги. И все же я не намерен вносить вклад в какую-либо чисто риторическую критику, пусть привозную, пусть новомодную, не намерен я и уступить бремя самоприсутствия дескриптивным, а не аналитическим подходам к сознанию. Полное критическое знание явления запоздалости и проистекающего из него недонесения, разрабатываемое ревизионизмом, может привести к критике такого рода, которую мы изредка встречаем уже у наших современников — Уилсона Найта, Берка, Эмпсона, величайших и вернейших, по-моему, наследников Кольриджа, Хэзлитта, Рескина, Эмерсона и Пейтера. Критике угрожает опасность, что наследники Ауэрбаха и Нортропа Фрая сделают ее сверходухотворенной, а последователи школы Деконструкции, наследники Ницше, самые выдающиеся из числа коих Деррида де Ман, Хиллис Миллер, лишат ее духовности. Есть нечто компенсаторное и самосохраняющее в образном истолковании с его слишком уверенным приятием того, что поздние тексты могут «исполнить» ранние, подобно тому как архетипическое истолкование слишком поспешно утверждает, что взаимное великодушие — это основание великой поэзии. И все же последние достижения деидеализирующей критики, кажется, полагаются на слишком узкий канон текстов и только на те части текстов, в которых внутритекстовые различия группируются или явно бросаются в глаза. Структуралистская критика, даже в своих последних и самых утонченных моделях, подчиняется антимиметической теории, в которой то, что Деррида называет «игрой», неизбежно оказывается господствующим понятием, концептом, под воздействием которого каждый троп или семиотический прием, как выражается Хартман, превращается в свободное падение. Мой собственный опыт читателя говорит о том, что поэты отделяют себя от других поэтов силой тропа, или оборота речи. Величие достигается вследствие отказа отделять истоки от целей. Отца встречают в битве и борются с ним, если не за сепаратный мир, то хотя бы за то, чтобы устоять. Бремя представления, таким образом, становится сверхмиметическим, а не антимиметическим, а это означает, что истолкование также должно принять испытываемые сверхмимесисом печали. Предлагая самую антитетическую критику, последовательно противопоставляющую поэта поэту, я надеюсь убедить читателя, что ему тоже следует принять агон поэта как свою участь и превратить свою запоздалость из бедствия в силу.
ЧАСТЫ II. КАРТА
5. КАРТА НЕДОНЕСЕНИЯ
Не знаю, как у других, но когда я слышу, как наши архитекторы щеголяют пышными словами вроде: пилястр, архитрав, карниз, Коринфский и Дорический ордер, и тому подобными из их жаргона, — моему воображению представляется дворец Аполидона; а на самом деле я вижу здесь только жалкие доски моей кухонной двери. Вы слышите, как произносят слова метонимия, метафора, аллегория и другие грамматические наименования, и не кажется ли Вам, что обозначаются таким образом формы необычайной, особо изысканной речи? А ведь они могут применяться к болтовне вашей горничной.
Монтенъ. О суетности слов (Основной вариант)
Новый Завет стремится «исполнить» Ветхий. Блейк родился, как ему порой казалось, для того, чтобы «исправить» Мильтона. Эдуард Бернштейн, основатель «ревизионизма» в современном смысле слова, привлек многих последователей тем, что хотел как будто бы одновременно исполнить и исправить Маркса, и такое двойственное стремление сформировало отношение Юнга к Фрейду, а вслед за тем и многих других ересиархов. Все ревизионисты, даже нерелигиозные, это анагогисты, хотя и поверхностные в своей анагогии. Духовный подъем слишком часто объясняется стремлением к власти над предшественниками, стремлением, истоки которого твердо определены, а цели — вполне произвольны. Предпринятая Ницше критика истолкования — это и демистификация ревизионизма, и еще одна инстанция самосохраняющего ревизионизма, появляющаяся в творчестве Ницше как следствие его. ненависти к губительности собственной запоздалости.
После Ницше и Фрейда невозможно целиком и полностью вернуться к модусу истолкования, стремящемуся восстанавливать значения текстов. И все-таки даже самые утонченные современные ницшеанцы — «деконструкторы» текстов — вынуждены редугрхровать эти тексты, стремясь обойти стороной историю и психологию или убежать от них. Ничто не отвратит читателя, которому нравится то же, что и мне, от растворения всех лингвистических элементов литературного текста в истории и от попытки проследить все семантические элементы литературного дискурса, вплоть до психологических проблем. Семиологическая загадка, какой бы ценной она ни была, это в общем усовершенствованное уклонение от неизбежной дискурсивности литературного текста. Вымыслы последыша должны признавать, что они — вымыслы, и, быть может, любой древнегреческий вымысел признавал это, но следует ли нам считать, что и Библия признавала, что она — вымысел? Деконструктивистские прочтения избавляют от иллюзий тексты, допускающие такого рода иллюзии, Но что такое иллюзии в текстах, целиком и полностью посвященных повторному собиранию значения или восстановлению способности читателя к тому своеобразному видению, которого такие тексты требуют от него?
«Истолкование» некогда значило «перевод», и, по сути дела, оно таковым и остается. Фрейд сравнивает анализ сновидений с переводом с одного языка на другой. Можно предпочесть Фрейда, избавляющего от иллюзий, его главному сопернику, Юнгу, считающему, что он восстанавливает первичные значения, но дискредитирующему едва ли не всякую возможность такого восстановления; однако нам будет непросто с редуктивностью Фрейда, и мы примемся размышлять, не может ли возникнуть из самого передового исследования поэзии другой способ истолкования сновидений. Мы не нашли возможности уклониться от прозрений Ницше, продвинувшихся опасно далеко, даже дальше, чем прозрения Фрейда, поскольку Фрейд не сказал бы нам, что рациональная мысль — это и есть единственное истолкование в соответствии со схемой, от которой мы не в состоянии отказаться. И все же «перспективизм» Ницше, то единственное, что он смог предложить в качестве альтернативы западной метафизики, — это лабиринт, практически куда более иллюзорный, чем иллюзии, которые он намеревался рассеять. Не нужно быть религиозным в каждом чувстве или намерении или склоняться ко всякого рода теософиям и оккультным рассуждениям, чтобы заключить, что значение стихотворений или сновидений, всякого текста вообще, существенно обеднено вдохновленной Ницше деконструкцией, какой бы скрупулезной она ни была. Стихотворения и сновидения могут равно и напоминать нам о том, чего нет в нашем сознании, или о том, чего мы, как нам кажется, не знаем, и принуждать нас вспоминать те виды знания, которые мы уже считали недоступными для себя. Такие приметы — это не просто иллюзии, рассеивающиеся в ходе атаки, пусть даже такой бескомпромиссной, как атака Ницше, якобы покончившего с реминисценцией или любым исследованием ностальгии, деконструируя сам мыслящий субъект, превращая «я» в «rendez-vous» личностей. Блейк, Бальзак, Браунинг принадлежат к числу титанов девятнадцатого века, представляющих в своих произведениях деконструкцию «я» куда решительнее, чем Ницше, и все же все они в конце концов истолковывали значение, припоминая, а не демистифицируя его. А то, что они вспомнили (помимо всего прочего) — это ступени, вторгающиеся между ощутимым и неощутимым миром, между сознанием и объектом, которые исчезли из большей части текстов, написанных после Декарта.
Здесь рассматривается не что иное, как оценка сознания, ведь для Ницше и Фрейда сознание — это, в лучшем случае, маска, и все же для Блейка и Браунинга (и Эмерсона) оно должно быть не ложью, но прорицанием истины. Исходя из интересов дела, Ницше и Фрейд запутывают самих себя, ибо общая их цель — напрячь и расширить сознание. Нам придется начать там, куда не вхожа никакая романтическая традиция, для того чтобы найти точку истока, достаточно первичную и позволяющую рассмотреть историю отношений между западным самосознанием и духом ревизионизма.
Проблема оригинальности исследуется западными мыслителями, начиная с Платона. Поэтому Лавджой в «Великой цепи бытия» различает двух богов — и оба они, вне всякого сомнения, платоновские — Блага из «Филеба» и творческого Демиурга из «Тимея», первый из коих — «не от мира сего», а второй — «от мира сего». «Природа блага отличается от всего прочего… тем, что живое существо, которому оно во всех отношениях, всегда и вполне присуще, никогда не нуждается ни в чем другом, но пребывает в совершенном довольстве» («Филеб», 60с). Оно противоположно Богу, который «был благ, а тот, кто благ, никогда и ни в каком деле не испытывает зависти. Будучи чужд зависти, он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому» («Тимей», 29). Платон превращает этих противоположных богов в то, что Лавджой назвал: «Два-Бога-в-одном, божественное дополнение, которое все же не полно в себе, поскольку оно не может быть собой, если не существуют другие и наследственно неполные, сущие». В неоплатонизме и в средневековом христианстве, как показывает далее Лавджой, этот двойной Бог продолжает развиваться как «конфликт двух несовместимых концепций блага». Человек должен в конце концов уподобиться Богу, а уподобление изначально понимается как подражание. Но какому Богу или аспекту Бога? Предшественник — это Бог «единства, самодостаточности и спокойствия» или Бог «разнообразия, самопреодоления, плодовитости»?