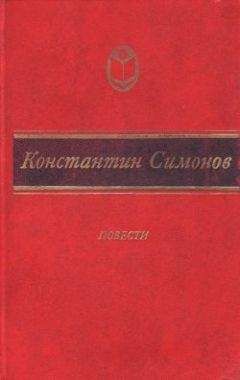Хэролд Блум - Страх влияния. Карта перечитывания
Если мы рассматриваем влияние как троп риторической иронии, связывающий раннего поэта с поздним («иронии» как фигуры речи, а не фигуры мысли), тогда влияние — это отношение, которое говорит о внутрипоэтической ситуации одно, подразумевая другое. Влияние в этой фазе оказывается тем, что я назвал клинаменом, изначальной ошибкой, вследствие того, что ничто не может быть на своем собственном месте. Его можно назвать сознательным состоянием риторичности, утверждающим, что стихотворение должно быть пере-читано, поскольку его обозначение уже блуждает. От нестерпимого присутствия (стихотворения предшественника) уже избавились, и новое стихотворение начинается с illusio, что это отсутствие может ввести нас в искушение признать новое присутствие. Диалектика присутствия и отсутствия психологически обосновывается первой защитой, которую Фрейд назвал формированием реакции, первичным предохранением «я» от «оно». Равным образом риторическая ирония — это ограничение стеснением и скованностью, служащее для того, чтобы помешать выражению противоположных стремлений, и в то же время делающее противонагрузку вполне явной.
После этого первоначального сужения влияние как троп и как защита в ходе восстановления обращается против себя. С точки зрения риторики, эта подстановка схожа с синекдохой, в которой термин большего объема замещает меньшее представление. Поскольку часть выступает вместо антитетического целого, влияние теперь означает своего рода запоздавшее дополнение, которое я назвал тессерой. В терминологии Фрейда эта пропорция соединяет две взаимосвязанные защиты, поворот-против-себя и обращение, соответственно поворот агрессивных влечений вовнутрь и фантазию, в которой действительная ситуация предстает таким образом, чтобы она могла поддерживать отрицание всякого внешнего опровержения или отказ от него. В результате влияние становится частью, а целым становится ревизия самого себя, или повторное самозарождение.
Все восстановления и представления вызывают новые страхи, и процесс-влияние продолжается новым компенсаторным ограничением, подходящим тропом для которого оказывается метонимия, а параллельными защитами — триада регрессии, отмены и изоляции. Это второе ограничение, что ранит себя глубже, чем ирония, это, как я ее назвал, пропорция кеносис. Она, метонимия влияния, является опустошением первичной полноты языка, так же как ирония влияния была опорожнением или отсутствием присутствия. Таким образом, влияние как повторение сменяется влиянием как становлением, или, применяя лингвистический троп, сходство сменяется смежностью, коль скоро имя, или первичный аспект влияния, заменяет его более глубокие значения. Кеносис защищает, изолируя, удаляя инстинктивные влечения из их контекста, но оставляя их в сознании, т. е. удаляя предшественника из его контекста, отменяет сделанное ранее противопоставлением; именно так возникает особенность метонимии, затрудняющая различение ее и синекдохи. Последовательнее всего влияние как метонимия защищается от самое себя регрессией, поворотом к ранним периодам предполагаемой творческой активности, когда поэтический опыт казался куда более незамутненным удовольствием и когда удовольствие, доставляемое сочинением, казалось куда более полным.
Влияние, рассматриваемое как гипербола, вводит нас в области Возвышенного представления, сменяющего метонимическое опустошение. Акцентирование избытка в. этом случае связано с защитой вытеснения, ибо высокие гиперболизированные образы бессознательно скрывают преднамеренное забвение или неузнавание тех внутренних побуждений, которые склоняют нас к объектам, удовлетворяющим наши инстинктивные требования. Гипербола — это тот троп влияния (из числа моих шести пропорций), который кажется мне самым важным для Высокого Романтизма, гиперболического в своих видениях воображения, и потому в этом случае процесс влияния тождественен всем. запоздалым версиям Возвышенного.
Риторики, начиная с Аристотеля и вплоть до наших современников, и моралисты, начиная с Платона и вплоть до Ницше и Фрейда, почетное право быть самым важным тропом присваивают метафоре и связанной с ней защите сублимации, но, по моему мнению, тут мы вновь оказываемся в модусе ограничения, а не представления, что я и попытаюсь разъяснить в своей книге. В качестве тропа влияния метафора в ходе аскесиса, или работы сублимации, которая сама оказывается замещающим удовлетворением, переносит имя влияния на серию непричастных к нему объектов. Это активная защита, поскольку под влиянием «я» замещающая цель, или объект, занимает место оригинального влечения на основании избирательного сходства. Влияние как метафора чтения таким образом занимает место существовавшего раньше и выдержанного в духе Вико вымысла о чтении. И все же, невзирая на весь свой престиж, метафора тоже троп ограничения. Как говорит Берк, ирония подвергает того, кто ей пользуется, диалектике присутствия и отсутствия; метонимия принуждает к редукции от полноты к пустоте языка; метафора все же куда сильнее ограничивает поэзию, создавая перспективизм внутреннего и внешнего, чтобы добавить еще один субъект-объектный дуализм к бремени воображения. Сублимация в жизни может быть мудростью; в литературе она становится соблазном поражения, поскольку согласиться с чувством самоумаления, как она предлагает, значит согласиться с выживанием предшественника, считая его неизбежной формой другого, дуализмом, который уже никогда не будет преодолен.
Книга, которую вы читаете, подчеркивает значение влияния как шестого тропа, как металепсиса, или переиначивания, процесса чтения (и писания) стихотворений, как заключительной пропорции ревизии, которую я назвал апофрадесом, или возвращением предшественников. Квинтилиан осуждал металепсис, считая его пригодным разве что для комедии, и вслед за ним этот троп считали неестественным многие теоретики эпохи Возрождения; новое значение троп получил во времена Мильтона, если справедливы рассуждения, приводимые в главе 7 моей книги.: В этой главе металепсис описан и более чем достаточно проиллюстрирован; здесь необходимо лишь подчеркнуть его отношение к защитам интроекции и проекции. Мы можем определить металепсис как троп тропа, метонимическое замещение слова фигуральным выражением. В более широком смысле металепсис, или переиначивание, — это схема, часто аллюзивная, отсылающая читателя к прежде существовавшей фигуративной схеме. Соответствующие защиты — это, очевидно, интроекция, поглощение объекта или влечения с целью его преодоления, и проекция, выведение запрещенных влечений или объектов вовне за счет приписывания их другому. Влияние как металепсис чтения стремится стать либо проекцией и отстранением будущего и таким образом интроекцией прошлого, подстановкой поздних слов на. место ранних в предшествующие тропы, или же, чаще, отстранением и проекцией прошлого и интроекцией будущего, подстановкой ранних слов на место поздних в тропах предшественника. Тем или иным путем, исчезает настоящее и в результате обращения возвращаются мертвые, чтобы пройти в триумфальном шествии живых.
Как использовать этот шестичленный троп акта чтения? Почему разговор о влиянии не включает в себя традиционную терминологию исследования источников? Начнем с признания того, что де Ман прав, называя критику метафорой акта чтения. Суть нашего предложения в таком случае состоит в том, чтобы обогатить критику, обнаружив более содержательный и убедительный троп акта истолкования, троп, антитетический не только по отношению ко всем прочим тропам, но в особенности по отношению к себе самому. Если все тропы — это защиты от других тропов, тогда предназначение влияния как сложного тропа истолкования может заключаться в том, чтобы защитить нас от самих себя. Быть может, в наше позднее время истолкование стало защитой читателя. Должны ли мы в самом деле при истолковании стремиться к обретению власти над текстом? Начинается ли истолкование наших дней со страха, который испытывает читатель? Становится ли сегодня читатель уязвимым и опоздавшим, страшащимся того, что чтением он только блокирует развитие своей индивидуальности? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо избавиться от идеализма в том, что касается истолкования.
Истолкование стихотворения — это всегда и неизбежно истолкование того, как это стихотворение истолковывает другие стихотворения. Когда я однажды сказал это в лекции, посвященной пропорции ревизии аскесис, или влиянию как метафоре чтения, в аудитории встал по-настоящему известный поэт и заявил, протестуя, что его стихотворения написаны не о каком-нибудь Йейтсе, но о жизни, о его собственной жизни. Я спросил у него в ответ о его, поэта, позиции по отношению к порожденной жизни, и о том, при помощи каких средств научился он определять ее, с тем чтобы вообще оправдать написание стихотворений. Но мне бы также следовало спросить его о том, что он имел в виду, говоря, что его стихотворения «о» чем-то, что то или это — их «предмет». Исконное значение «о» — находиться «окрест», вне чего-то, и стихотворение «о» жизни поистине находится вне жизни. Изучать, о чем написаны стихотворения, значит истолковывать их внешние отношения. Ведь «предмет» (subject) на самом деле подчинен чему-то, и предмет стихотворения, таким образом, подчиняет (subjects) себе стихотворение.