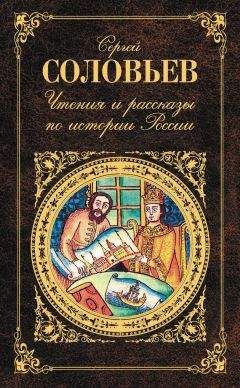Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
Синтез общего и особенного достаточно ясен, пока это синтез другого, а не «я». Высказывание «Je suis epris d'un etre vivant qui lui ressemble» вполне понятно, коль скоро «lui» указывает на другую, в данном случае женскую, идентичность. Но если, как в «Нарциссе», ситуацию точнее описать словами «je suis epris d'un etre vivant qui me ressemble», тогда пересечение общности и особенности с категориями «я» и другого порождает беспорядок, отчетливо различимый в «страстной», «восторженной» речи Пигмалиона. Амбивалентность «я» и другого активно обыгрывается в модусе возвышенного, и притязание на общность должно распространяться равным образом и на «я». Отсюда следует, что «общая» форма статуи Гала- теи есть «я» в радикальном смысле. Произведение уже не появляется из оформляющей его частной воли, но именно произведение и вызывает к жизни «я», призванное стать истоком и telos произведения: «Мне кажется, будто из этой статуи извергаются огненные стрелы и, воспламенив мои чувства, вместе с моей душой возвращаются к источнику!» (1:1228; 508). Отныне само произведение — источник света и жизни, оно — и зеркало, и светильник. Произведение читает человека и обнаруживает, что вне отношения к произведению он ничего не значит. Кажущееся жертвоприношение «я» («Ах! Пусть Пигмалион умрет, чтобы жить в Галатее!..» [1:1228; 508]; «Я отдал тебе все свое существо — я буду жить теперь только в тебе» [1:1232; 510]) становится фактически его прославлением, ибо такой и только такой ценой может произведение назваться источником и сделаться центром всей жизни, «священным огнем», танцевать в котором могут одни лишь пророки. Поэзия извлекает свои самые действенные соблазны из этого искушения, из мифа Блейка о Книге Огня, которая «обнажает скрытую... бесконечность...», адским методом вытравливая «мысли мои на металле кислотами», сделанными из огненного жара, что превращает «металлы в текучие жидкости...», чтобы «их вбирали люди, расставленные по полкам, как книги»[212].
Пигмалион, будучи персонажем, уклоняется от этого искушения, пока оно явно высказывается и обнаруживается. В важнейшем месте пьесы, определяющем драматический образец текста, когда тотализирующая идентификация почти что произошла, обмен между «я» и другим, призванный отменить все полярности, не осуществляется или, точнее, приносит прибыль (или убыль), не позволяющую завершить повествование: «Ах! Пусть Пигмалион умрет, чтобы жить в Галатее!.. Но что я говорю, о небо! Ведь если б я стал ею, то не видел бы ее, я не был бы тем, кто ее любит. Нет, пусть моя Галатея живет, но пусть я не буду ею. Ах, пусть я всегда буду собой, чтобы вечно стремится быть ею, чтобы видеть ее, чтобы любить ее, чтоб вечно быть ею любимым!..» (1:1228; 508). Как обычное подтверждение «pieuse distance», отрывок (если не обращать внимания на нагнетание местоимений) не говорит ничего такого, что уже не было бы сказано Нарциссом, очарованным собственным портретом. Но высказывание сделано после того, как завершилось систематическое развитие, ведущее от буквального через аналогическое к общему, и это придает ему дополнительное значение. Равновесие тотализирующей симметрии образца подстановки нарушено: вместо того чтобы слиться в высшем всеобщем «Я», два «я» все так же противопоставлены друг другу в парализующем неравенстве. Таким образом подвергнуты сомнению как раз обосновывающие систему категории — категории «я» и другого. Если эти полярности положены только для того, чтобы уничтожить их противостояние, тогда неудача синтеза, сохранение их антагонизма, означает ошибочность их полагания. А ведь кажущееся завершение текста не оставляет сомнения в том, что их противоборство, бесконечно повторяясь, продолжается. Заключительный разговор Галатеи и Пигмалиона вновь возвращает нас к ситуации главного рассуждения пьесы, когда Пигмалион уходит от окончательного отождествления с самой обобщенной формой самости. Если оживание Галатеи (момент, который остается рассмотреть) подтверждает это истолкование, тогда пьеса могла бы, в принципе, завершиться отождествляющим эхом двух произнесенных протагонистами «moi»: «Галатея (прикасается к себе и произносит). Я. Пигмалион (вупоении). Я» (1:1230; 510). Дополнительная ремарка об упоении отмечает неравновесие, проявляющееся в последнем обмене репликами. Отделившаяся от материального камня («Галатея (делает несколько шагов и трогает мрамор). Это уже не я») Галатея явственна до чрезмерности, но то, что она говорит, прикоснувшись к Пигмалиону, столь же двусмысленно, как и знаменитое «Ах!», произнесенное Алкменой в конце «Амфитриона» Клейста:
Галатея приближается к Пигмалиону и смотрит на него; он стремительно вскакивает, протягивает к ней руки и глядит на нее в экстазе. Она дотрагивается до него рукой: он весь вздрагивает, берет эту руку, прижимает к сердцу и покрывает горячими поцелуями.
Галатея (вздохнув). Ах! это тоже я (1:1230-1231; 510).
Едва ли это тон эксатического слияния, он скорее напоминает о безропотной терпимости к ухаживаниям сверхусердного обожателя. Поскольку Галатея — «Я» как таковое, она должна включать в себя все частные «я», в том числе и «я» Пигмалиона; как высказывание о тождестве, в котором «encore moi» значит «aussi moi» («тоже я»), это утверждение вполне справедливо. Именно так понимает его Пигмалион; оно возвращает ему уже проверенный язык самопожертвования: «Пигмалион....Это ты, ты сама: я отдал тебе все свое существо — я буду жить теперь только в тебе» (510). Но строка «Ah! encore moi», произнесенная со вздохом, предполагающим разочарование, а не удовлетворение, может еще значить «de nouveau moi» («снова я»), сообщая о постоянно повторяющемся различении общего «Я» и «я» как другого. В самом деле, различие между холодностью Галатеи и пылкостью Пигмалиона не может быть больше еще и потому, что, вопреки видимости, не случилось ничего такого, что могло бы подорвать действенность раннее упоминавшегося момента отказа от саморазрушения и предупредить его повторение. Правда, к этому времени статуя ожила, но текст преднамеренно организован так, что благая весть приходит и* как награда за жертвенное само-преодоление, но только после того, как оставлена всякая надежда на успех подобной экономии «все или ничего»: «Пигмалион. ...Увы! в моем состоянии взываешь ко всему на свете, но ничто нам не внемлет, надежда, манящая нас, еще более безрассудна, нежели наше желание» (1:1224; 509). Когда Пигмалион возвращается к риторике самоуничтожения в последних строках, из предшествующих событий текста можно предположить, что его вновь оставила надежда, тщетность которой отныне уже точно доказана. Руссо и его читатель могут теперь, вместе с Галатеей, удалиться от персонажа по имени Пигмалион (чего не могло быть раньше, когда Пигмалион подтверждал существование расстояния) и отметить, что заключительная сцена — на самом деле не вывод, но еще одно колебание в последовательности обращений, ни одному из которых не хватает сил завершить текст.
Отделение группы произведение—автор—читатель от сознания протагониста показывает, что мы находимся уже не в тематическом контексте, подвластном самости, но в фигуральном представлении структуры тропов. Оживание статуи — не ответ на самую развитую стадию диалектики общего и частного, на жертвенное само-отрицание субъекта. Оно происходит после того, как утверждается «холодное» настроение, проглядывающее сквозь эту стратегию. Способность производить текст позволяет убедиться в том, что это радикальное отрицание «я» фактически оказывается восстановлением «я»: даже в этой короткой пьесе оно производит большую часть «жара», который сохраняет язык живым и позволяет ему связать между собой парадоксы, основанные на бинарных оппозициях. Язык пафоса бесконечно красноречив. Однако структура первичности, представленная временной последовательностью драматического действия, показывает, что в тот момент, когда Галатея снисходит наконец до того, чтобы позаимствовать у Пигмалиона избыток того, чего ей не хватает, она питается от огня, который холоднее огня жертвенных алтарей. Деятельность, приводящая к усилению обмена репликами в конце пьесы,— это деконструктивное рассуждение об истине и лжи, разрушающее трагическую метафору самости и заменяющее ее знанием о том, что ее структура фигуральна и эпистемологически ненадежна. Когда Галатея оживает, Пигмалион уже не трагическая фигура, он, как Фрейд в толковании Рикера, воплощается в нетерпимый к пафосу «я» деконструктивный процесс истолкования (в чтение). Оживание Галатеи вознаграждает за переход к этому более глубокому уровню понимания. Но положение текста таково, что даже этому модусу рассуждения не дано прийти к последнему обмену, который разрешил бы напряжение изначального угнетенного состояния. Следующая за благой вестью о том, что Галатея ожила, часть действия прерывает приводящее к ней диалектическое становление и просто повторяет свой ошибочный образец. Рассуждению, посредством которого утверждается фигуральная структура «я», не удается избавиться от категорий, о завершении деконструкции которых оно объявило, и то же самое, конечно, верно относительно любого рассуждения, стремящегося, в свою очередь, вновь запечатлеть фигуру этой апории. И нет исхода из диалектического движения текстопроизводства.