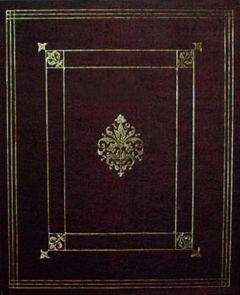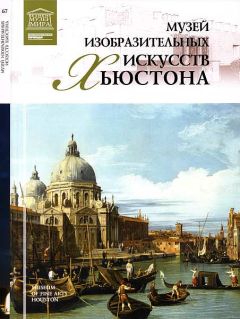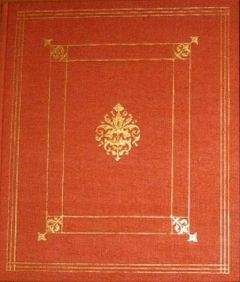Марина Бессонова - Избранные труды (сборник)
Последние события пошатнули веру в само присутствие духовного начала посреди самых подлых деяний человечества. Для того чтобы передать со всей силой отчаяния ощущение богооставленности, нужно было уничтожить привилегии традиционной картины, всегда занимавшей одно из самых почетных мест в пластической иерархии.
«Картина» должна была быть принесена в жертву не оправдавшей себя культурной утопии.
Фотрие и Дюбюффе предстояло осуществить эту очистительную, или, если угодно, ассенизаторскую, по отношению к искусству миссию. В двадцатые годы Фотрие принял предложение участвовать в дебатах против авангардистов, за возвращение в картину вещественности. Его тяжеловесные, грубые, обнаженные натурщицы, застывшие в загроможденных ателье, не без некоторой демонстративной пошлости противопоставляли себя пребывающим в вечном процессе взаимопревращенной, а следовательно, агрессивной жизни таинственным мутантам или откровенно эпатирующим манекенам сюрреалистов. В годы оккупации Фотрие, отказавшись от банальной игры в традиционную картину «а ля Курбе», подошел к вершинам своего искусства, создав цикл Заложников. Эта большая серия живописных и скульптурных образов порывала и с картиной, и со скульптурой в их традиционном авангардном истолковании. Живописные Заложники как бы искажены по законам беспредметных композиций, но их тяжелые фактурные намывы краски, смешанной с гравием, смолами, цементом, заставляют забыть о гедонистической рукотворности. Материал напоминает о земле, тепле, грязи: это формы, зафиксированные перед их разложением; что касается образов, то они отмечены следами бесчеловечного насилия. Художник констатирует, выбирает и делает средством своего творческого жеста как бы не ему принадлежащие, чужие формы, не им рожденные и потому не складывающиеся ни в какую, в том числе и абстрактную, картину. То же уничтожение традиционной картины с ее элитарным внутренним пространством и гедонизмом, который она возбуждает у зрителя, довершает Дюбюффе, первым еще в предвоенные мрачные годы обратившийся к комиксам, площадному искусству (подзаборным граффити) и рисункам душевнобольных. Кстати, творчеству последних уделяется немалое внимание во Франции вскоре после войны. Наконец-то и французскому искусству становятся близкими поиски их немецких коллег, заклейменные «дегенеративными» в период фашизма.
Правда, у французской картины есть и защитники в лице художников, непосредственно примыкающих к авангарду. Это отказавшийся еще в тридцатые годы от монополии сюрреалистов на картину Бальтюс, вернувший картинному пространству, потрясенному до основания и преобразованному в очистительном пламени кубизма, замкнутую статичность особого свойства. Призрачная сценичная коробка Бальтюса, в которой узнаются опосредованные цитаты из усложненных геометрических построений мастеров треченто и кварточенто, порождает, подобно своим прототипам, специфические, присущие только этой среде персонажи. При всей амбивалентности подтекстов, провоцирующих их прочтение, улицы и мастерские Бальтюса обладают самостоятельной пластической значимостью, являясь чем-то бóльшим, чем временными вместилищами знаков и символов у сюрреалистов. Пластическая самоценность миров Бальтюса продлевает на некоторое время жизнь независимой авангардной картины, в то время как, скажем, фигуративные полотна Леже 1950-х годов, во многом ангажированные французским «социалистическим реализмом», довершают ее уничтожение. Утопический рай для рабочих, одинаковые фигуры которых с лицами-масками балаганных персонажей громоздятся, подобно птицам на проводах, на лесах стальных ферм, не меньше, чем Заложники Фотрие, апеллирует к лежащим вне картины и предлагаемым самим обществом смыслам. Застывшие пикники с расположением фигур «в духе Давида» и замершие, как при замедленной съемке, парадные шествия с композициями, расползающимися от заполнивших их персонажей, отсутствующие выражения лиц которых так и напрашиваются на вывод, что им незадолго до праздника сделали лоботомию, требуют иных, не картинных, сред обитания. Леже реализовался в поздний период творчества в монументальном искусстве: этого требовала так называемая фигуративность в отличие от его же вещизма и геометрической абстракции 20-х годов, которым еще вполне достаточно было «картины».
Пожалуй, наиболее глубокой реакцией на смерть традиционной картины стало в 1940–950-е годы искусство Джакометти, причем как собственно живопись, так и его скульптура. В портретных интерьерах, где в снятом, остраненном виде присутствуют цитаты из Сезанна, Дерена и даже Рембрандта, Джакометти мучительно не может расстаться с таинственным и драгоценным пространством «картины». Его эксперименты с одинокой фигурой или предметом, то удаляющимися, то надвигающимися на зрителя, подобно фантому, реализуются только внутри умозрительного картинного мира; иногда персонажи умирают, перестают существовать вовсе. Джакометти заклинает их штрихами и потеками жидкой краски: это своего рода «антидриппинг», если воспользоваться термином американских абстрактных экспрессионистов. Джакометти не может отказаться от «картины»: он дополняет ее скульптурой, где прибегает к давно заклейменным предшествующим авангардом живописным приемам, разрыхляя и дробя форму, создавая вокруг скульптурных объемов особое искусственное пространство, своего рода сценическую клетку, уподобляя отдельные скульптуры изысканным графическим знакам.
Наиболее независимой и сильной оппозицией тризне по убитой картине стала на рубеже 1960-х и 1970-х годов живопись позднего Пикассо. Возвращаясь в последние двадцать лет творчества к сериям В мастерской художника и Модели, Пикассо как бы игнорирует творимый вокруг «картины» салонный и авангардный шабаш. Мастерская художника – мотив, прочно укоренившийся в обновленной картине всех довоенных авангардных поколений. Мастерская – символ независимости, уникальности пластического жеста творца. В мастерской Пикассо происходят удивительные превращения; можно сказать, что они становятся самостоятельным живым объектом, дополняющим конкретную реальность. Его мастерскую заселяют странные, живущие особой жизнью, только по своим законам, огромные ню – порождения пикассовского интеллекта, воли, чувства. Они – верные спутники жизни мастера от рождения кубизма до самой его физической смерти. В мастерской сходятся персонажи Делакруа, Мане, Веласкеса и Рембрандта как бы в доказательство того, что они, по аналогии с творениями пикассовского гения, выполняют определенные органические функции внутри собственных старых картин – живых существ, свойствами которых их наделили великие творцы прошлого. Эти существа под властью кисти Пикассо страдают и агонизируют вместе с ним, как бы наблюдая конец жизни великого мастера. Их не могут убить вещи «новых реалистов», так как они сами не менее овеществлены; их невозможно подвергнуть хирургическому структурному анализу, так как они на глазах меняют свое обличье, существуя в вечной авантюре трансформаций. Поздняя живопись Пикассо полностью автономна по отношению к развивающимся независимо от нее и параллельно ей новым авангардным тенденциям. Поздний Пикассо уникален по отношению к внутренней логике развития послевоенного авангарда. Ему удалось оказаться «вне потока».
Итак, не только традиционная в прямом смысле слова, но и обновленная авангардная «картина» убита. История французского изобразительного искусства XX века демонстрирует это со всей очевидностью. Новый возврат к фигуративности в 1970-е годы в пределах ограниченной масштабами поверхности с его отчужденным протоколированием прежних и, как правило, описательных приемов-имитаций, так же, как и почти болезненное погружение в многочисленные традиции у самого молодого поколения художников, изучающих их с отдаленной дистанции, остраненно, развивают и углубляют тенденцию отслоения «картины» от современного художественного сознания. То, что было когда-то изгнано, подвергнуто своего рода экзорцизму, не возрождается вновь в пределах одних и тех же поколений. Полотно Эрро Предыстория Поллока, где, выстраивая за головой почти впадающего в безумие Поллока все картинные фетиши прежних авангардов и оставляя их вместе с уже ушедшим из жизни Поллоком, Эрро и сам таким путем освобождается от многовековой фетишизации картинного сознания, – является ярким примером подобного творческого экзорцизма художника из поколения шестидесятников.
Увидим ли мы возрождение «картины»? Ведь ностальгия по ней дает себя знать в последние годы все сильнее. Очевидно, это та культурная ценность XX столетия, которая, вспыхнув в последний раз ярким пламенем в довоенном авангарде, оставила в душах многих поколений глубокий след. Современный французский авангард, с постмодерном в фарватере, не дает ответа.