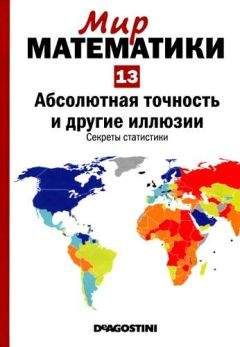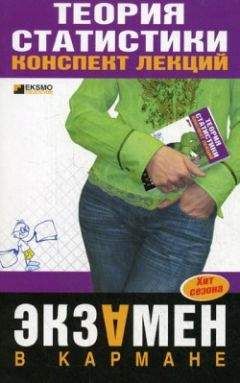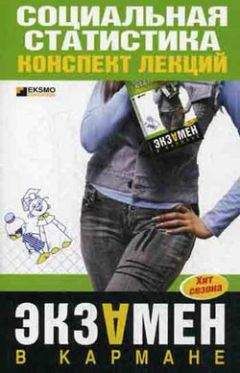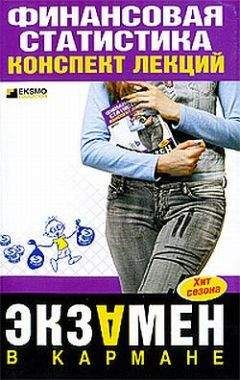Михаил Казиник - Тайны гениев
Именно здесь, в сражении со смертью, – говорит Пастернак, – заканчивается искусство как искус и как искусственность, но оно же открывается как Вечность.
Но об этом стихотворении – чуть ниже.
Глава 4. Три стихотворения
Поэт Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
Шекспир Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах – преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.
И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.
Спиралями, мешкотно падает снег,
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.
Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях – “Смотря по погоде.
А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем – на бочку! Цирюльник, воды!”
И бреясь, гогочет, держась за бока
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.
А меж тем у Шекспира
Острить пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За тем вон столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:
“Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, – короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?
Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но сэр, но, милорд, мы – в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!
Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов
– И вы с ним в бильярдной, и там – не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?
– Ему?! Ты сбесился? – И кличет слугу,
И нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу –
И в дверь, запустив в привиденье салфеткой.
Третий стих будет чуть ниже, а пока проведите эксперимент: прочтите стихотворение Пушкина, затем – Пастернака.
Если стих Пастернака будет непонятен, то перечтите стих Пушкина, но уже с сознанием, что Пушкин объяснит для нас Пастернака, ибо с классической ясностью он говорит о том же.
Мне уже не раз удавалось помочь тем, для кого поэзия – важная часть жизни, пользуясь прозрачным пушкинским стихом, понять невероятно сложный по стилистике стих Пастернака.
И каждый раз происходит чудо: пастернаковский стих внезапно сам приобретает прозрачность и совершенно классическую ясность. И чем больше мы будем вчитываться в пастернаковский стих, тем больше мы почувствуем стилистику не только этого конкретного стиха, но и пастернаковской поэзии, да и современной поэзии вообще.
Более того, я хочу высказать мысль, которая может показаться в начале странной:
стих пастернаковский – это пушкинский стих через сто лет. И написан он как реминисценция пушкинского. Единственное, чего я не осмелюсь определить, это – сознательная или подсознательная реминисценция у Пастернака.
Но
сейчас
я совершу
один ужасный
эксперимент:
я прозаически передам содержание обоих стихов в одновременном рассказе.
Почему это ужасно?
Да потому что сам нарушаю мое убежденное согласие с гениальным утверждением Осипа Мандельштама о том, что подлинная поэзия несовместима с пересказом. А там, где совместима, “там простыни не смяты, там поэзия не ночевала”. Единственное, что может меня оправдать – мой экзерсис – не пересказ, а еще более необычный эксперимент.
А вдруг бы он понравился Осипу Эмильевичу?
...Ладно!
Семь бед – один ответ
(Но, быть может... в этом что-то есть?)
Итак, закрыв глаза, бросаюсь в пропасть.
Эпизод из жизни У. Шекспира.
(Здесь выделяю фразы и образы, заимствованные из стиха Пастернака, а курсивом то же – из стихотворения Пушкина.)
Шекспир сидел за столом в грязной таверне в трущобном районе Лондона, где тесные улицы, где даже угрюмые закопченные стены пропахли хмелем, среди бражных бродяг, пил хмельное пиво и рассказывал им скабрезные анекдоты.
Бродяги громко хохотали, и больше всех один с намыленной мордой, который, заслушавшись остряка-Шекспира, никак не мог добриться и заодно решить, где он и остальные бродяги будут сегодня спать. Соснуть на улице (или, как они это обычно называют, “на свободе”).
А, может, и на лавке в кабаке.
Смотря по погоде.
Если будет падать этот мешкотный, обрюзгший снег, то придется пренебречь свободой и остаться в этом накуренном кабаке.
А Шекспир дымит не переставая, да так, что кажется, мундштук прирос к его рту навсегда.
Но что делает Шекспир здесь, в этом кабаке, среди людей, которые и понятия не имеют, что перед ними – величайший из когда-либо существовавших творцов?
Зачем он цедит этот бессмысленный вздор?
Дело в том, что его контакт с Аполлоном закончился. Результатом стал сонет, написанный ночью с огнем без помарок за дальним столом.
А затем его святая лира замолчала.
К тому же после контакта с небом Шекспир безмерно устал (ведь Бог требует поэта к священной жертве).
И Шекспиру захотелось расслабиться в кругу бродяг.
И здесь наш гений смалодушничал, он не просто подошел к бродягам, но ему вдруг почему-то понадобилось оказаться в центре их внимания.
Ведь лира его молчала, и он почувствовал себя в состоянии хладного сна, то есть таком же состоянии, в котором часто пребывают лондонские бродяги.
Им плевать на проблемы мироздания, и они этим счастливы.
Им бы выпить, погоготать, выспаться всласть, а затем вдоволь похмелиться.
И Шекспир словно стал одним из них. Постороннему могло бы даже показаться, что меж детей ничтожных мира он, может быть, ничтожней всех.
И вдруг в разгар гогота чуткий слух Шекспира уловил звук, который исходил из угла со стороны дальнего стола, где он в стороне от всех, всего несколько часов тому назад создавал свой сонет.
Тогда он не слышал ни гогота, ни грязных ругательств, но, лишь коснувшийся его слуха божественный глагол.
И вот этот звук Шекспир слышит вновь!
Поэт затосковал в забавах – ему стало не по себе.
И у Шекспира тут же пропала охота острить.
В следующее мгновение он бросился к дальнему столу.
И остолбенел!
Сонет говорит ему!!! Это Вы написали меня ночью, с огнем,
без помарок, но, Гений и мастер!
Почему Вы здесь?
Что Вы здесь делаете?
Что мне в вашем круге?
...Шекспир словно проснулся ото сна.
Что делает он, Поэт, здесь и этот ли бродяга на краю бочонка, с намыленной мордой, его друг?
Как может он, Шекспир, общаться с теми, кому он не осмелится прочитать своего сонета?
Как могут его уста извергать слова, которые столь же грязны и вонючи, как этот прокисший ранет в обнимку с клешней недоеденного омара.
Да вдобавок ко всему еще и – вонючий кнастер (этот мерзкий дешевый табак!)
Но у сонета есть необычное и весьма странное предложение. Может быть, Шекспиру стоит попробовать рискнуть пойти вместе с этим, который с намыленной мордой, в бильярдную и попробовать прочитать ему сонет?