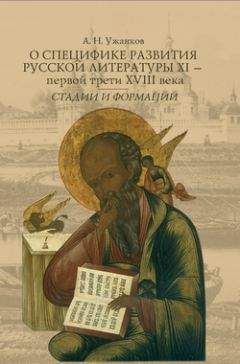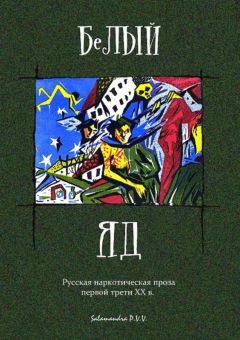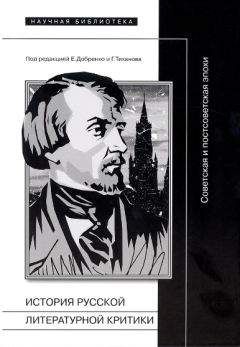Марина Хатямова - Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века
Автор играет с предсказуемо рационалистическим сознанием своего будущего критика и – достигает цели: именно метаструктурное «взрывание» логики повествования в конце и будет воспринято исследователями как крушение масонских идеалов Осоргина, следствием чего явится концепция игры ради игры (и сравнение его с Набоковым).[454] Однако, развенчивая ходульные повествовательные приемы и лежащие на поверхности идеи произведения, Осоргин настойчиво отстаивает свои ценности. Автор выстраивает ситуацию «романа о романе» для того, чтобы роман стал жизнью; программирует судьбой героя существование читателя (русского эмигранта) и свое собственное.[455] Самоирония повествователя не подвергает сомнению путь героя, она скорее связана с пониманием ограниченности новой положительной утопии («стыдом утопизма»,[456] по определению Ф. Аинсы). Ирония снимет назидательность предлагаемой спасительной идеи – идеи природокультурного существования, вариантом которого является и масонское братство.
Масонские легенды о языческих богах Иштар, Изиде, Озирисе (помимо магистральной – о Соломоне и Хираме), включенные в повествование по принципу «текста в тексте», не только создают суггестивное, поэтическое, идеальное пространство культуры, в которое герой, вместе с читателем, совершает бегство из лишенного «воздуха», меркантильного Парижа, но и являются образами, вариантами природокультурной утопии. Осмысливающий масонские тексты и совершающий масонские ритуалы, посвященные познанию природы, вооружившись, главным образом, литературой по естественнонаучному направлению, Е. Е. Тетехин постепенно и закономерно приходит к природному существованию на участке земли под Парижем с профессором биологии Лоллием Романовичем Панкратовым[457] («Так сказать – будем познавать Природу», – говорит Тетехин последнему, приглашая его жить вместе). Автор, вместе со своим героем, ищет священное Слово истины, и путь Тетехина оказывается небесполезным (не случайно же он Егор Егорович!). Финал романа – единение с природой и поездка героя на собрание масонской ложи в Париж (куда Е. Е. Тетехин отправляется «весь в тайной радости и явном смущении» [С. 215]) – оставляет идеалы Осоргина незыблемыми, лишь защищенными мягкой самоиронией понимающего необщеобязательность найденного для всех ос-тальных.[458]
«Вольный каменщик» – повествование о пути русского интеллигента в эмиграции, создание новой положительной утопии сохранения культурной идентичности. Осоргин создает философию природокультуры, сплавленную из культурных и литературных мифов, масонских легенд (и лежащих в их основе языческих мифов мировой мифологии) и идей пантеистической философии. «Онтологизация культуры» выполняет в художественном мире М. А. Осоргина роль «новой утопии», опоры в ситуации катастрофического существования человека в эмиграции.
Метатекстовая структура «романа о романе» служит у Осоргина не для замещения утраченной реальности текстом о ней (как у модернистов), а для сохранения истинного существования с помощью проективной силы искусства.[459] Позднее, во «Временах», это традиционное и классическое для русской литературы представление о творчестве примет вид эстетической формулы: «я пишу не произведение – я пишу жизнь».[460]
3.4. Структура «текста в тексте» как способ сохранения культуры в повести Н. Н. Берберовой «Аккомпаниаторша» (1934)
Культуроцентризм Н. Н. Берберовой, представительницы младшего поколения первой русской эмиграции, поэтессы, прозаика, критика, литературоведа, свидетельствующий о масштабности и разносторонней одаренности личности, получил свою реализацию в разных формах творчества и воплотился в его жанровой репрезентативности: лирическая поэзия, романная и малая проза, критические статьи и обзоры в эмигрантской периодике, повествования о художниках, мемуарная и автобиографическая проза. Художественное наследие Н. Н. Берберовой остается практически не исследованным, несмотря на подлинный интерес читателей к созданным ею биографиям, мемуарам[461] и к личности их автора.[462]
В автобиографии «Курсив мой» писательница признавалась, что не сразу осознала свое призвание не поэта и автора романов[463] (с чего начался ее творческий путь), а создателя повестей – «длинных рассказов».[464] Из двух серий рассказов Н. Н. Берберовой – «Биянкурские праздники»[465] и «Облегчение участи»[466] – в России издан сборник избранного «Рассказы в изгнании»,[467] включающий в себя восемь наиболее известных произведений разных лет («Аккомпаниаторша», 1934; «Роканваль», 1936; «Лакей и девка», 1937; «Облегчение участи», 1938; «Воскрешение Моцарта», 1940; «Плач», 1942; «Мыслящий тростник», 1958; «Черная болезнь», 1959) и два очерка («Конец Тургеневской библиотеки», 1960; «Памяти Шлимана», 1958).
Обращение к повести Берберовой «Аккомпаниаторша» (1934), принесшей литературную известность ее автору,[468] обусловлено репрезентативностью текста и для Берберовой-прозаика,[469] и для исследования феномена литературности в прозе эмиграции: структуры «текста о тексте», сюжета дневника героя, встроенного в сюжет повествователя. Написанная в середине 1930-х годов, в одно время с метароманами Замятина («Бич Божий») и Осоргина («Вольный каменщик»), повесть Берберовой принадлежит представительнице младшего поколения эмиграции (В. Набоков, Г. Газданов, Б. Поплавский, Ю. Фельзен, В. Смоленский и др.), вынужденного ассимилироваться в европейской социокультурной среде и воспринимающего (что прочитывается в мемуарах «незамеченного поколения» – В. Яновского, В. Варшавского и самой Н. Берберовой) проблему сохранения национальной культуры (ее «консервацию») как утопию «стариков» (эмигрантов – «общественников» старшего поколения). Кроме того, проза Берберовой (как и Осоргина) – это проза журналиста; в ней документально-публицистическое, информационное начало подавляет стилистическое и является самоценным.[470] Вместе с тем появление литературоцентричной структуры («текст о тексте») в творчестве писателя, в целом не склонного в своих текстах к «повышенной литературности», сигнализирует о влиянии на него эстетических идей времени, отвердевающих в определенных повествовательных структурах и служащих становлению оригинального языка прозы.[471]
В автобиографии «Курсив мой» Н. Н. Берберова неоднократно высказывает свои эстетические пристрастия, связанные не с традициями русской классики («Толстоевского», по ее ироничному определению), а с современной западной литературой модернизма (Пруст, Джойс, Лоуренс, Кафка). В статье 1959 года «Набоков и его «Лолита» были сформулированы эстетические представления Берберовой о языке современной прозы: «ХХ век дал нам литературу, отличающуюся от всего, что было написано раньше, четырьмя элементами, и в "литературной периодической системе" они теперь стоят на своих местах (…) Эти четыре элемента – интуиция разъятого мира, открытые «шлюзы» подсознания, непрерывная текучесть сознания и новая поэтика, вышедшая из символизма».[472]
Повесть «Аккомпаниаторша» (1934), открывающая, по признанию автора,[473] самостоятельный период творчества, отвечает этим эстетическим постулатам. Фабула изображает жизнь молодой девушки, завершившуюся скорой гибелью. Картина раздробленного, «разъятого» внешнего и внутреннего (сознание героини) миров воссоздается как поток сознания – в дневнике героини, повествованием от 1-го лица. Дневниковая функция достоверности, документальной основы изображаемого задается в предисловии автора-повествователя, где излагается история тетради: «Эти записки были мне доставлены г. П.Р. Он купил их у старьевщика на улице Роккет, вместе с гравюрой, изображающей город Псков в 1775 году, и лампой, бронзовой, когда-то керосиновой…» [С. 3].[474] П. Р. (инициалы должны указывать на реально существующее лицо), который купил и прочитал тетрадь, не узнал, «кто была писавшая». Автор-повествователь (она же и издатель) признается, что героиня легко узнаваема: «Я кое-что изменила в этих записях, потому что не все могут оказаться такими недогадливыми. Та, которая написала и не сожгла эту тетрадь, жила среди нас, и многие ее знали, видели и слышали» [С. 3]. Таким образом, повествовательная рамка, предпосланная дневнику героини, сообщает ему статус подлинности: записок реально жившего человека, лишь незначительно подкорректированных издателем. Причем «сюжет дневника» героини насквозь литературоцентричен, собран из известных литературных протосюжетов, этически отсылающих к русской классике. Взросление Сони изображается как несостоявшаяся инициация, а сами записи предстают «антироманом воспитания».