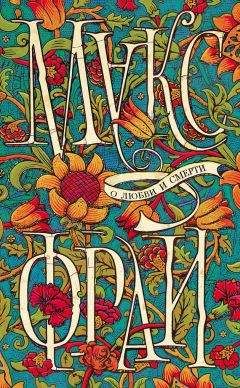Валерий Мильдон - Санскрит во льдах, или возвращение из Офира
«Сгорбленный и подавленный происшедшим, он медленно спускался с лестницы веранды, идя один, без связей и средств к существованию, в жизнь почти неведомой утопической страны» (с. 208).
После этих слов автор написал: «Конец первой части».
Сколько мне известно, вторая не была написана, и финальные строки можно истолковать так: неведомая утопическая страна — не только Москва/Россия 1984 г., но и Россия той поры, когда создавалось «Путешествие». И не от утопии 1984 г. стеснилось сердце героя, а от не высказанного автором ощущения, что небезоблачным будет грядущее реальной, исторической России, из которой так хорошо унестись туда, где побывал «брат мой»; откуда не тянет вернуться, но где, увы, никому не суждено жить.
С этой стороны утопия Чаянова неожиданно сближается с утопиями Замятина и Козырева; и ее можно классифицировать как антиутопию, учитывая упомянутый выше двойной утопизм: написанная в 1920 г., она изображает случившееся с героем в 1921 (1–я утопия), в результате чего он попал в 1984 г. (2–я утопия). Таким образом, 1984 год противостоит 1921–му, и мир той, грядущей поры явно разногласит миру этому. Утопия же 1921 г., в отличие от утопии 1984–го, является свернутой, с еще неопределившимися перспективами, однако — вот откуда мрачные тона и в окончании повести, и в городском пейзаже начала — велика вероятность, что перспективы не сулят ничего радостного.
Поскольку 2–я часть задумывалась автором, даже если отнестись к словам «конец 1–й части» как к художественному приему, имеющему целью ввести читателя в заблуждение, но поскольку все же не невероятно продолжение, то его можно было бы объяснить, как однажды я пробовал объяснить отсутствие 2–й части в «Мертвых душах» Гоголя: реальность России не давала поводов вообразить исправление Чичикова, благодетельный поворот в его судьбе, избавление страны и народа от засилья мертвых.
Нечто похожее могло произойти с воображением (не с логикой, не с понятиями) Чаянова: он собирался найти выход и для «брата Алексея», и для реальности, из которой тот попал в 1984 г. Ничего
не удалось, реальность в который раз оказалась сильнее благих намерений, но странное дело — она развивалась так, словно сбывалась утопия: многое, о чем грезили русские утописты, превратилось в каждодневный быт, за одним разве исключением — осуществленная утопия никому не принесла радости, вопреки всем литературным проектам. Вот об этом‑то — о несчастье утопии, перешедшей из книги в действительность, — и предупреждали русские литературные утопии XX столетия. По крайней мере, две из них, «Мы» Замятина и «Путешествие» Чаянова (обе, кстати, 1920 г.), назвали — если не придавать слову буквального значения — и причину несчастья: человек остается средством в руках тотальной государственности. Замятин об этом прямо, а Чаянов, изображая противоположный порядок. Однако главная причина, найденная писателями, свидетельствует о существенных переменах в сознании русских: человек становится объектом, тогда как прежде таковым рассматривали народ, государство, человечество. Прежнее отношение еще имеет силу, но рядом появляется другое, хотя — покажет опыт следующих десятилетий — оно пока не влияет на перемену действительности. Повлияет ли, кто знает?
Утопия Чаянова — последняя, опубликованная в России. Остальные вещи, о которых пойдет речь ниже, не являются представителями жанра, в них лишь попадаются мотивы, свойственные чистым утопиям. Эти мотивы и станут предметом дальнейшего исследования.
Почему же не было полноценных (в жанровом смысле) утопий после Чаянова? Нахожу две причины. Первая содержится в характере самого жанра: утопия предполагает, что существующие порядки нехороши. Большевистский режим не позволял независимой критики. Вторая причина кажется более существенной, о ней и пойдет разговор. Похоже, писатели почувствовали, что возникающие условия не подлежат улучшению; что даже когда сами авторы намерены пропеть этим условиям гимн, они — против своей воли (не все, правда, против своей, многие и добровольно) — сбивались на похоронный марш. Я потому и завел разговор об утопических мотивах, что они появляются, так сказать, исподволь и попадают в неразрешимое противоречие с не контролируемой писателем художественной логикой, опровергающей и эти мотивы, и сам торжественно — радостный тон, который хотят придать своим сочинениям авторы.
В книгах М. А. Булгакова «траурный марш» звучал отчетливее других мелодий. Из тех, у кого я нахожу утопические мотивы, Булгаков был писателем, не питавшим, кажется, никаких надежд на будущее, — таковы оба его произведения 1925 г.: «Роковые яйца» и «Собачье сердце».
Если сохранить предложенную выше классификацию утопий: социологические (каковы едва не все русские долитературные и XVIII столетия утопии, «Ленинград» Козырева) и антропологические (в чистом виде им соответствует, пожалуй, лишь роман Гоголя); если признать, что имеется группа сочинений, объединяющих оба подхода («4338» Одоевского, «Что делать?» Чернышевского, «Сон смешного человека» Достоевского, «Мы» Замятина), то антропологизм в повестях Булгакова следует поставить в более широкий контекст биологизма. Это объяснимо и медицинским образованием автора, и, возможно, влиянием западноевропейской литературы, в частности, романов Г. Уэллса «Пища богов», «Остров доктора Моро», «Люди как боги»; «Грядущая раса» Э. Бульвер — Литтона. Влияние, конечно, носило исключительно историко — литературный характер некой «подсказки», побудительного импульса — и только, ибо содержание русского писателя абсолютно оригинально.
Оригинальность этих вещей, отличающая их от западноевропейских предшественников, состоит прежде всего в том, что изображены биологические и антропологические проблемы. Никакой социологии (новинок в государственном строе, в политической организации общества, чиновного аппарата и пр.), свойственной прежним литературным утопиям, у Булгакова нет. Однако био- и антропология представлены так, что служат комментарием (бесспорно, умышленным) социологической проблематики.
Действие «Роковых яиц» отнесено к 1928 г. — почти синхронно времени публикации. Профессор Персиков открывает красный луч, ускоряющий рост организмов и увеличивающий их размеры. В качестве метафоры это изобретение имеет несколько ближайших смыслов. Во — первых, символика красного без каких‑либо сомнений олицетворяет советский режим. Во — вторых, принцип ускорения — одна из вечных констант режима. С момента его возникновения («военный коммунизм» как немедленное введение коммунизма), знаменитого лозунга «Догоним и перегоним» (20–50–е годы) до совсем недавней (вторая половина 80–х годов) идеи ускорения. Заодно вспоминается «Время, вперед!», «Пятилетку в четыре года» — почти любой читатель может продолжить этот список, свидетельствующий о полном пренебрежении реальным, историческим временем, в котором испокон чудится обман и подвох.
Создатель «Роковых яиц» со свойственной писателям художественной проницательностью почувствовал в таком пренебрежении временем одну из важных черт новой власти, на свой лад и в новых условиях продолжающую национальную традицию.
Наконец, в — третьих, ускорение под действием красного луча разрушает сложившиеся в природе ритмы и сроки, ведет к засилью примитивных организмов. Попытка же перенести эту методику на более сложные формы жизни может привести к катастрофе.
Метафора этого последнего смысла, читаемого в изобретении профессора Персикова, ныне кажется очевидной: большевистский эксперимент по ускоренному созданию нового общества привел к распространению примитивных отношений и вызвал обеднение самого человеческого типа. В повести дана безукоризненная с точки зрения художественной логики мотивация такого содержания метафоры.
«Будем говорить прямо: вы открыли нечто неслыханное<…>Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!
Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.
— Ну — ну — ну, — пробормотал он<…>
— Да вы гляньте, — Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение…»[10].
Злобу, агрессию, красным лучом многократно усиленные в примитивных организмах (ибо основанием и целью явились не селекция уникального, не поддержка исключительного, а «скорость и размеры»), писатель угадал в качестве господствующих признаков нового общества, нового порядка жизни, новой психологии. Когда к профессору является посетитель и, рекомендуясь директором совхоза «Красный луч», называет фамилию — Рокк, метафорические смыслы повести получают дополнительные значения: да, красный луч, содействующий росту примитивных организмов (злобе, взаимной агрессии), — это рок, непреодолимая сила, которая победит, но ее победа — катастрофа, ибо эта сила озабочена только собой, ей нет дела ни до чего другого, человек (если о нем заходит речь — а в повести Булгакова как раз до человека и не доходит, о нем — его следующая книга — «Собачье сердце») для нее — лишь ничем не примечательная разновидность биоматериала.